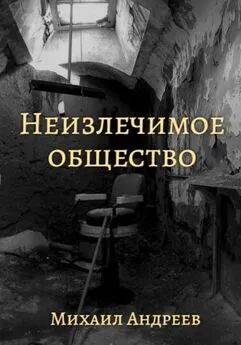Михаил Антонов - Право и общество в концепции Георгия Давидовича Гурвича
- Название:Право и общество в концепции Георгия Давидовича Гурвича
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Высшая школа экономики»
- Год:2013
- Город:Москва
- ISBN:978-5-7598-0959-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Антонов - Право и общество в концепции Георгия Давидовича Гурвича краткое содержание
Для студентов и аспирантов, изучающих социологию, юриспруденцию, философию, преподавателей гуманитарных дисциплин, а также для широкого круга читателей, интересующихся историей правовой мысли и желающих углубить свои представления о связи права и общества.
Право и общество в концепции Георгия Давидовича Гурвича - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В противостоянии двух великих русских философов Гурвич принимает сторону Вл. Соловьева, воспринимая его тезисы о праве как о форме выражения сверхличностных ценностей. Критикуя теократические идеи Соловьева и выступая против чрезмерного сближения морали, религии и права, Гурвич в то же время явно принимает сам «универсалистский» подход этого мыслителя, противопоставляя его «индивидуалистическому» подходу Чичерина [211] См.: Гурвич Г. Д. Два величайших русских философа права: Борис Чичерин и Владимир Соловьев / пер. с нем. М. В. Антонова, А. В. Полякова // Правоведение. 2005. № 4. С. 146.
. Право, в конечном счете, является не «минимумом нравственности», а, как подчеркивает Гурвич, лишь средством для осуществления нравственности [212] См.: Гурвич Г. Д. Два величайших русских философа права: Борис Чичерин и Владимир Соловьев / пер. с нем. М. В. Антонова, А. В. Полякова // Правоведение. 2005. № 4. С. 154.
. Но это не два разных аспекта духовности – внешний и внутренний, как думал Кант и за ним Чичерин; право и мораль являются однопорядковыми явлениями, представляя собой разные ступени осуществления идеала [213] См.: Гурвич Г. Д. Два величайших русских философа права: Борис Чичерин и Владимир Соловьев / пер. с нем. М. В. Антонова, А. В. Полякова // Правоведение. 2005. № 4. С. 143–144.
. Именно эта идея лежит в основе идеал-реалистического подхода В. С. Соловьева к праву, отличая его концепцию от схожих, но отнюдь не тождественных его взглядам идей философии Фихте.
Из содержания данной статьи можно сделать вывод, что Гурвич занимал тогда вполне четкую позицию в русском философско-правовом дискурсе, первоначально склоняясь в сторону нравственного идеализма Соловьева, «спиритуализм» правовой доктрины которого он пытался компенсировать акцентированием не метафизической, а социальной природы права. При этом основы для социологического анализа мыслитель находил в концепции самого Соловьева, пытаясь не столько скорректировать, сколько «завершить» начатую великим русским философом философско-правовую систему, различая в ней несколько разных тенденций [214] Примечательно, что в течение нескольких лет Гурвич продолжал интересоваться философией права Вл. Соловьева, о чем свидетельствуют прочитанные им лекции и доклады о творчестве этого великого мыслителя в кругах русской эмиграции в Париже (см.: Русское зарубежье… Т. 1. С. 218).
. Вместе с тем нужно признать, что «завершение» Гурвича страдало тем же недостатком, что и его анализ позиций других мыслителей, – произвольным дополнением чужих идей собственными представлениями. Это, в частности, относится к тезисам Гурвича о социологических основах философии Соловьева и о второстепенном значении теократических идей для формирования социально-политической концепции этого великого русского мыслителя.
Хотя в своих франкоязычных работах Гурвич почти не ссылается на авторитет русских философов, чьи идеи вдохновляли его искания 1920-х годов, нетрудно проследить параллели между «авто-теургической этикой» мыслителя [215] См.: Гурвич Г. Д. Этика и религия.
и современными ему направлениями русской философской мысли: «этикой сублимации как зависимости от Абсолютного» Б. П. Вышеславцева, «этикой восходящих ступеней добра» СИ. Гессена, «теономной этикой любви» Н. О. Лосского и т. д. Идеал-реализм Франка, Лосского и других учеников Вл. Соловьева перекликается здесь с идеал-реалистическим учением Фихте, творчество которого также было созвучно творческим исканиям Гурвича.
Участие молодого ученого в русском философском дискурсе, на некоторое время приостановленное, вновь вступает в активную фазу после переезда Гурвича в 1925 г. во Францию. Там он встречает уже сформировавшиеся эмигрантские круги, доступ в которые был теперь не так прост, как в начале 1920-х годов. Среди нескольких групп, организованных по идеологическому и политическому принципам, Гурвич оказывается наиболее близок к центристским кругам, признанным главой которых был П. Н. Милюков. Мыслитель принципиально дистанцируется от политической деятельности, оставаясь «беспартийным социалистом» [216] См. Дело Г. Гурвича (анкета от 27 апреля 1928 г.) в архивах русских масонских лож (Великий Восток Франции – Северная Звезда (1924–1970)). 11-2-1/207.
. Среди периодических изданий эмиграции Гурвич больше всего сотрудничает с «Современными записками»; их возглавляли бывшие левые эсеры Вишняк, Бунаков и Фундаминский, политической программе которых Гурвич симпатизировал в России [217] Так, в одном из писем Ф. Броделю Гурвич пишет о том, что в годы революции он был «очень близок к идеологии левых эсеров» (письмо Г. Гурвича Ф. Броделю от 18 января 1962 г. // Библиотека Института Франции. Фонд Фернана Броделя. № 52).
, но с политической ангажированностью которых он не соглашается в период эмиграции. Ученый продолжает свою академическую деятельность в учебных и научных заведениях русской эмиграции: читает лекции по теории и философии права, по истории русской философии права во Франко-русском институте социальных, политических и правовых наук [218] Так, в программе за 1926–1927 гг. указано, что Гурвич читал лекции по истории политических учений в Новое время (происхождение и эволюция демократических идей): Программа курсов Франко-русского института социальных и политических наук на 1926–1927 гг. // ГА РФ. Ф. 5956. Оп. 2. Д. 540.
; на юридическом факультете Парижского университета; в Русском народном университете [219] См. афиши лекций за 1925–1927 гг. в архивах Института славянских исследований в Париже. (Центр современных архивов Франции. Фонд Института славянских исследований. 20010498/176). Чтение Гурвичем лекций по русской философии права подтверждают и другие источники. См., например, список лекций и докладов мыслителя (Русское зарубежье… Т. 2. С. 212 и след.), его переписку с издателем (письмо Г. Гурвича Ф. Зибеку от 12 ноября 1925 г. (цит. по: Gurvitch G. Ecrits allemands. Vol. 1. P. 357)).
.
Показательна в этом смысле опубликованная в 1926 г. на французском языке статья «Русская философия первой четверти XX века», где Гурвич не скрывает своих симпатий к идеал-реалистическим концепциям соотечественников – идет ли речь о попытке Н. О. Лосского связать идеальный и эмпирический аспекты [220] Gurvitch G. La philosophie russe du premier quart du XXème siècle // Monde slave. 1926. Р. 255. Показательна дискуссия между Гурвичем и Лосским во Французском философском обществе по поводу интуитивизма Н. О. Лосского (См.: Lossky N. et al. L’intuitivisme russe et le réalisme anglo-saxon. Discussion sur la conception de Nikolai Lossky. Séance du 09 juin 1928 // Bulletin de la Société française de Philosophie. No. 28. Р. 167–171), где, высоко оценивая философскую концепцию Лосского, Гурвич упрекает мыслителя в том, что «в его идеал-реалистической системе очевидным образом реализм преобладает над идеализмом, тогда как синтез интуитивизма и критического трансцендентализма, возможно предугаданный в последних работах Фихте, должен вести к построению позиции, превосходящей как реализм, так и идеализм» (Ibid. P. 171).
, либо о попытке С. Л. Франка найти онтологическую основу для идеальных элементов бытия [221] См.: Gurvitch G. La philosophie russe du premier quart du XXème siècle. Р. 259.
. Вывод Гурвича заключается в «констатации бесспорного факта наличия в русской философии ясно выраженной общей тенденции к метафизике, онтологической теории знания и морали, к истинной философской системе» [222] См.: Gurvitch G. La philosophie russe du premier quart du XXème siècle. Р. 259.
. Среди мыслителей эмиграции Гурвич выделяет группу ученых, опирающихся на идеи Фихте и видящих в его системе «замечательный синтез иррационализма и диалектики» [223] См.: Gurvitch G. La philosophie russe du premier quart du XXème siècle. Р. 263.
. К этой группе, помимо себя самого, он причисляет Ф. Степуна и Б. Яковенко [224] См.: Gurvitch G. La philosophie russe du premier quart du XXème siècle. Р. 263.
. Интересно отметить, что, пользуясь новыми знакомствами с французскими интеллектуалами, Гурвич пытается наладить взаимоотношения между русскими и французскими мыслителями [225] Например, в письмах к Н. А. Бердяеву мыслитель говорит о своих попытках включить известного французского философа Э. Жильсона в философскую полемику в среде русской эмиграции с участием С. Л. Франка (письмо Г. Д. Гурвича Н. А. Бердяеву от 7 февраля 1926 г. // РГАЛИ. Ф. 1496. Оп. 1. Ед. хр. 448.). Гурвич не оставляет своих русских коллег, прося для них о протекции. Так, через несколько лет мыслитель пишет Бердяеву о своих неудачных просьбах о помощи С. Л. Франку, которому Э. Жильсон отказался помогать, заслужив за это от Гурвича эпитеты «очень злой и недоброжелательный человек» (письмо Г. Д. Гурвича НА. Бердяеву от 2 июля 1933 г. // Там же). Характерна в этом отношении переписка Г. Д. Гурвича с В. Э. Грабарем, которому его бывший ученик пытается помочь с публикациями во Франции.
, что, как представляется, было одной из его первоочередных задач (тем более, если вспомнить о целях вступления мыслителя в русскую масонскую ложу «Северная Звезда»).
Интервал:
Закладка: