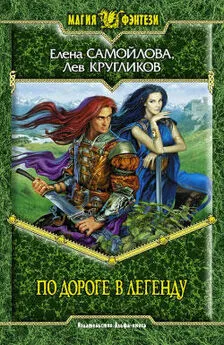Лев Кругликов - Юридические конструкции и символы в уголовном праве
- Название:Юридические конструкции и символы в уголовном праве
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Юридический центр»
- Год:2005
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-94201-428-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Лев Кругликов - Юридические конструкции и символы в уголовном праве краткое содержание
Ольга Евгеньевна Спиридонова – кандидат юридических наук. По окончании в 1998 г. Ярославского университета осталась работать на кафедре уголовного права и процесса, где и трудится по настоящее время. В 2002 г. успешно защитила кандидатскую диссертацию. Автор ряда научно-методических работ.
В предлагаемой читателю работе рассматриваются нетрадиционные для уголовно-правовой доктрины вопросы, касающиеся понятия и роли юридических конструкций, а также символов в современном уголовном праве. Широко используются материалы судебной практики.
Книга предназначена для научных и практических работников, преподавателей, аспирантов и студентов юридических высших учебных заведений.
Юридические конструкции и символы в уголовном праве - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Квалифицирующие обстоятельства отражают в уголовном законе степень общественной опасности определенного вида поведения – типовую степень кражи, грабежа, фальшивомонетничества и т. п., свидетельствуя о существенном изменении уровня опасности по сравнению с отраженной при помощи признаков основного состава. Квалифицирующее значение придается лишь тем обстоятельствам дела, «в которых совмещаются наиболее крупные и резкие признаки, могущие характеризовать деяние в качестве наиболее опасного» [235] Замечания редакционного комитета уголовного отделения Санкт-Петербургского юридического общества на проект Особенной части Уголовного уложения. СПб., 1885. С. 27.
либо менее опасного.
Резюмируя, можно дать следующую дефиницию квалифицированного состава: им является совокупность таких признаков преступления, которые свидетельствуют о резко повышенной или пониженной, по сравнению с отраженной при помощи признаков основного состава, общественной опасности деяния, что обусловливает выделение в законе данной разновидности состава в качестве относительно самостоятельной, с иной – повышенной или пониженной – санкцией. Логическим итогом такого выделения является необходимость новой квалификации деяний, сопровождаемых квалифицирующими обстоятельствами, и ориентация суда на новые пределы назначения наказания.
Признаки же состава преступления как родового понятия – это закрепленные в уголовном законе обстоятельства, в совокупности своей определяющие характер и типовую степень общественной опасности деяния и личности виновного, законодательную оценку вида поведения.
Применительно к квалифицирующим обстоятельствам нуждается в уточнении и сформулированное В. Н. Кудрявцевым требование, согласно которому признак состава выражает отличие соответствующего уголовно наказуемого деяния от других преступлений и правонарушений. Дело в том, что квалифицирующие признаки отражают внутриродовые различия (например, отличие кражи, совершенной по предварительному сговору группой лиц, с незаконным проникновением в помещение или иное хранилище, от «простой» кражи), т. е. отличие одного преступления от другого преступления того же рода , а не вообще от других преступлений. Что же касается их возможности отграничивать преступления от правонарушений, то ответить правильно на этот вопрос нельзя без уяснения связей основного и квалифицированного составов.
Ряд ученых считает, что между этими составами существует жесткая связь, преемственность, ибо под квалифицирующими признаками понимаются «дополнительные по отношению к основному составу и его признакам обстоятельства» [236] Барков А. В. Указ. соч. С. 285.
. Иначе рассуждал А. Н. Трайнин. Он полагал, что, допустим, применительно к краже следует говорить не о едином составе, распадающемся на ряд видов (простой, квалифицированный, особо квалифицированный), а о трех самостоятельных составах, поскольку признаки, их характеризующие, различны [237] Трайнин А. Н. Состав преступления по советскому уголовному праву. М., 1951. С. 140.
.
Думается, однако, что обе точки зрения страдают определенной односторонностью, ибо не учитывают наличия в российском уголовном законодательстве двух разновидностей конструкций состава. В Уголовном кодексе описано около 280 квалифицированных составов преступлений, которые по общему правилу расположены в части второй соответствующих статей, но нередко и в третьей, и в четвертой (особо квалифицированные и «особо» особо квалифицированные – ч. 3 и 4 ст. 150, 166, 188 УК и др.). В таких случаях они действительно по общему правилу выделяются исходя из наличия «дополнительных обстоятельств» – дополнительных по отношению либо к основному (ч. 1), либо к квалифицированному (ч. 2) составу, либо к тому и другому одновременно. Например, признак «совершение преступления организованной группой» (ч. 4 ст. 188 УК) – дополнительный к основным признакам, предусмотренным в ч. 1 ст. 188 (контрабанда в крупном размере). В то же время его нельзя считать дополнительным по отношению к признакам квалифицированного состава (ч. 3 ст. 188), ибо содеянное оценивается по правилам ч. 4 и в случаях, когда контрабанде не сопутствуют обстоятельства, названные в ч. 3 (совершение преступления должностным лицом с использованием своего служебного положения, с применением насилия).
Нередко признаки «простого» квалифицированного состава дополняют, развивают признаки основного состава, что подчеркивается начальными словами диспозиций их второй части: «Те же деяния, совершенные…» Но если квалифицированный состав слагается из признаков основного состава и квалифицирующих признаков, то можно ли противопоставлять квалифицированный состав основному и утверждать, что налицо самостоятельные составы? Характерная особенность квалифицированных составов с подобной конструкцией заключается в том, что вменение ч. 2, 3 или 4 соответствующей статьи невозможно, если не установлены (помимо квалифицирующих) признаки основного состава. Когда квалифицирующий, особо квалифицирующий и т. и. признак, вмененный виновному, не подтверждается (например, в ходе судебного следствия), он подлежит исключению. Это, однако, не влияет на вывод о природе деяния (оно остается преступным). В подобной ситуации содеянное должно быть переквалифицировано на ч. 1 соответствующей статьи.
В Особенной части действующего Кодекса существуют и второго рода конструкции, подчас ставящие теорию и практику в крайне затруднительное положение. Сказанное касается, в частности, состава умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества (ст. 167 УК). В силу ч. 1 статьи деяния лица наказуемы, если они повлекли причинение «значительного ущерба». Повышенная наказуемость установлена за «те же деяния, совершенные… путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом…» Возникает естественный вопрос: в тех случаях, когда уничтожение или повреждение имущества осуществляется общеопасным способом, требуется ли наличие всех признаков основного состава? Казалось бы, ответ возможен только один: да, требуется. Именно к такому выводу и пришел в конечном счете Пленум Верховного Суда РФ в абз. 1 и. 6 Постановления «О судебной практике по делам о нарушении правил пожарной безопасности, уничтожении или повреждении имущества путем поджога либо в результате неосторожного обращения с огнем» от 5 июня 2002 г. № 14. В нем сказано, что уголовная ответственность по ч. 2 ст. 167 УК возможна «только в случае реального причинения потерпевшему значительного ущерба. Если в результате указанных действий, непосредственно направленных на поджог чужого имущества, предусмотренные законом последствия не наступили по причинам, не зависящим от воли виновного, то содеянное при наличии у него умысла на причинение значительного ущерба должно рассматриваться как покушение на умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога» [238] Бюллетень Верховного Суда РФ. 2002. № 8. С. 4.
.
Интервал:
Закладка: