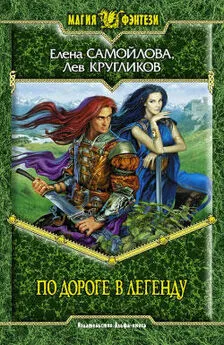Лев Кругликов - Юридические конструкции и символы в уголовном праве
- Название:Юридические конструкции и символы в уголовном праве
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Юридический центр»
- Год:2005
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-94201-428-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Лев Кругликов - Юридические конструкции и символы в уголовном праве краткое содержание
Ольга Евгеньевна Спиридонова – кандидат юридических наук. По окончании в 1998 г. Ярославского университета осталась работать на кафедре уголовного права и процесса, где и трудится по настоящее время. В 2002 г. успешно защитила кандидатскую диссертацию. Автор ряда научно-методических работ.
В предлагаемой читателю работе рассматриваются нетрадиционные для уголовно-правовой доктрины вопросы, касающиеся понятия и роли юридических конструкций, а также символов в современном уголовном праве. Широко используются материалы судебной практики.
Книга предназначена для научных и практических работников, преподавателей, аспирантов и студентов юридических высших учебных заведений.
Юридические конструкции и символы в уголовном праве - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Подобная же рассогласованность возникла после принятия Федерального закона «О борьбе с терроризмом» от 25 июля 1998 г. [62] См.: Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 31. Ст. 3808.
В последнем термин «терроризм» использован для обозначения родового понятия – он охватывает все виды террористических актов, наказуемых в уголовно-правовом порядке (в том числе посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля – ст. 277 УК, нападение на представителя иностранного государства или сотрудника международной организации – ст. 360 УК). Отдельные же его виды, и в их числе такое обозначенное в заголовке ст. 205 УК деяние, как «терроризм», именуются в Законе террористическими акциями. Но главное в том, что ст. 3 Закона называет не три, как в ст. 205 УК, а четыре цели терроризма – дополнительно выделена цель удовлетворения неправомерных имущественных и (или) иных интересов. Это решение законодателя следует признать разумным, поскольку им устраняется существующий пробел в диспозиции ст. 205 УК, к тому же можно более четко определиться в вопросе отграничения описанного в этой статье преступления от похищения человека, незаконного лишения свободы и захвата заложника (ст. 126, 127, 206 УК). Проблема же состоит в том, что логически вытекающие из Закона о терроризме уточнения в Уголовный кодекс не внесены и неизвестно, будут ли внесены. Во всяком случае, указанный в ст. 28 Закона трехмесячный срок (со дня вступления его в силу), в течение которого федеральные законы и другие нормативные правовые акты подлежали приведению в соответствие с ним, давно истек, а вытекающих из Закона о терроризме изменений в УК РФ не последовало [63] Законом «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации» от 22 января 1999 г. дополнения в ст. 205 УК сделаны (см.: Российская газета. 1999. 12 февр.), однако не в ч. 1 и не того плана, о котором говорилось выше.
. Если бы предписания данного комплексного нормативного правового акта в части, касающейся уголовно-правовых положений, имели прямое действие, могли рассматриваться как составная часть уголовного законодательства, проблемы, подобные упомянутым, уже не стояли бы столь остро.
Отметим, что в упоминавшемся проекте закона «О нормативных правовых актах Российской Федерации» обоснованно предусмотрено, что «в случае противоречия между нормативными правовыми актами, обладающими равной юридической силой, действуют нормы акта, принятого (изданного) позднее» (ст. 71).
В этом же контексте упомянем Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» от 8 января 1998 г. [64] См.: Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 2. Ст. 219.
, в ст. 60 которого предусмотрены две новеллы: 1) особый порядок условно-досрочного освобождения для лиц, осужденных к лишению свободы за преступления, связанные с оборотом предметов, указанных в заголовке данного Закона (при этом предусмотрительно оговорено: «в соответствии с законодательством Российской Федерации»), 2) «уголовная ответственность за введение в пищевые продукты или напитки наркотических средств или психотропных веществ без уведомления лица, для которого они были предназначены». Закон вступил в силу в апреле 1998 г., но до настоящего времени соответствующих изменений и дополнений в УК РФ в полной мере не последовало, да это и не было предусмотрено упомянутым законом: в ч. 2 ст. 61 лишь предложено Президенту и поручено Правительству привести их нормативные правовые акты в соответствие с этим Федеральным законом. В итоге сохраняется неясность относительно судьбы упомянутых новелл, как и весьма распространившегося в периодической печати утверждения о том, что названным Законом предусмотрена уголовная ответственность за незаконное потребление наркотических средств и психотропных веществ. Действительно, статьи Закона содержат запрещение незаконного потребления, а равно оборота аналогов наркотиков и психотропных веществ, однако в них не оговорено применение именно уголовной ответственности за такого рода поведение. Между тем ясно, что оставлять без уголовно-правового реагирования в течение столь значительного срока, по крайней мере, факты незаконного оборота аналогов наркотических средств и психотропных веществ вряд ли было правильно.
В приведенных выше случаях произошло «выпадение» (вовсе или на довольно длительное время [65] Уголовная ответственность за незаконный оборот аналогов наркотических средств и психотропных веществ установлена в 2003 г. Федеральным законом № 162-ФЗ (см.: Собрание законодательства Российской Федерации. 2003. № 50. Ст. 4848), т. е. спустя пять лет после принятия закона о наркотиках.
) предписаний уголовно-правового характера из системы Особенной части действующего Уголовного кодекса.
Во-вторых, в связи с появлением новых международноправовых договоров, соглашений, пактов, конвенций, деклараций и т. п. до недавнего времени существовали и могут в дальнейшем возникнуть рассогласования между этими документами и Уголовным кодексом. Прежде всего обратим внимание на то, что УК РФ неадекватно отразил содержание ч. 4 ст. 16 Конституции. В последней зафиксированы два положения: 1) не только общепризнанные принципы и нормы международного права, но и международные договоры Российской Федерации «являются составной частью ее правовой системы»; 2) международный договор имеет приоритет в случае обнаружившихся противоречий между ним и законом РФ. В ч. 2 ст. 1 Уголовного кодекса речь идет только об общепризнанных принципах и нормах международного права и только о том, что УК «основывается» на них.
Можно опять-таки возразить, указав, что приведенные конституционные положения не в полной мере затрагивают сферу уголовного права и именно этим объясняется «укороченный» вариант их изложения в ст. 1 УК. Но так ли это на самом деле? Можно было бы еще как-то принять указанное возражение относительно Особенной части Уголовного кодекса, приведя тот довод, что международно–правовые акты, даже устанавливая запреты, конкретных санкций не предусматривают; отсутствует, следовательно, признак наказуемости и потому исключается прямое действие подобных положений в сфере уголовного права. Однако относительно Общей части этот довод еще более сомнителен.
Приведем конкретный пример. После распада СССР практика столкнулась с определенными трудностями в вопросе о допустимости учета по уголовным делам прежней судимости лиц в других республиках Союза и других странах СНГ, а равно смягчающих и отягчающих обстоятельств, возникших на территории этих стран. В УК РСФСР 1960 г. (как, впрочем, и в ныне действующем УК, а равно в Законе «О введении в действие Уголовного кодекса Российской Федерации») ответа на этот вопрос не содержалось. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам стран – участниц СНГ от 22 января 1993 г. в значительной мере ликвидировала пробел. В ст. 76 «Смягчающие или отягчающие ответственность обстоятельства» указано: «Каждая из Договаривающихся Сторон при расследовании преступлений и рассмотрении уголовных дел судами учитывает предусмотренные законодательством Договаривающихся Сторон смягчающие и отягчающие ответственность обстоятельства независимо от того, на территории какой Договаривающейся Стороны они возникли» [66] См.: Там же. 1995. № 17. Ст. 1472.
.
Интервал:
Закладка: