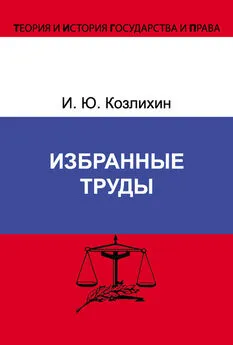Игорь Козлихин - Избранные труды
- Название:Избранные труды
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Юридический центр»
- Год:2012
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-94201-638-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Игорь Козлихин - Избранные труды краткое содержание
Книга предназначена для преподавателей, аспирантов и студентов юридических вузов, специалистов в области права, а также всех интересующихся вопросами юриспруденции.
Избранные труды - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Уже в этом афористичном утверждении Аристотеля видна суть античного взгляда на отношения властвования в обществе: власть персонифицируется – гражданин властвует над гражданином, а право как веление разума должно элиминировать отрицательные проявления человеческого властвования: разум противопоставляется страстям. Вряд ли это можно назвать проявлением «недоразвитости» античных правовых теорий, напротив, античность, предложив достаточно разработанную правовую теорию, вне непосредственной связи с теорией государства, вернее, с теорией государственного суверенитета (как это произошло впоследствии), продемонстрировала, что право является самостоятельным явлением и свои свойства заимствует отнюдь не от государственной власти. Какие же это свойства? Право должно быть положено в основание всякого закона, и право должно иметь в виду благо всех, а не только принимающих законы, будь то даже народное собрание. Иными словами, право не может быть орудием в чьих бы то ни было руках – большинства или меньшинства. Право не терпит исключений, оно есть равная мера для всех: правящих и подвластных, богатых и бедных, сильных и слабых. «Свободные равны перед законом», – говорил Зенон. Утверждение равенства среди неравных, т. е. равенства юридического, – важнейшая функция права. Оно действительно возникло с появлением неравенства между людьми, неравенства фактического, однако отнюдь не затем, чтобы увековечить его. Закон может выражать лишь волю сильного, но тогда он не будет являться правом.
Уже в древности хорошо понимали, что править, господствовать можно посредством силы (тогда форма правления будет неправильной, извращенной: тирания, олигархия, охлократия) или основываясь на праве (тогда мы получаем правильные формы правления: монархия, аристократия, демократия). С момента своего появления право призвано не усиливать власть сильного, а ограничивать ее. И Законы Солона, положившие начало Афинскому государству, и римские Законы XII таблиц были приняты по требованию «бедных и угнетенных» с тем, чтобы «сильные» не могли использовать свою силу произвольно. – Закон равен для всех. Так, Солон гордился тем, что он дал равный закон «благородным и подлым». Закон должен быть обнародован (Законы XII таблиц были выбиты на камне и выставлены на площади для всеобщего обозрения) и строго соблюдаться, причем не в интересах кого-либо персонально, а в интересах высшей справедливости. У Гесиода, например, законы установил бог Кронос, чтобы люди следовали справедливости, а не пожирали друг друга, как животные. Право – это политическая справедливость, считает Аристотель. «Право это наука о добром и справедливом», – вторит ему римский юрист Ульпиан.
Итак, уже в древности право ассоциировалось со справедливостью, равенством, свободой, порядком и противопоставлялось произволу как проявлению страстей. Правовая норма воспринималась как деперсонифицированное, абстрактное, всеобщее правило поведения. Но с точки зрения современного читателя, в античном правопонимании содержится существенный недостаток. Античный мир понимал свободу как состояние, противоположное рабству. Свободен тот, кто не подвержен чьей-либо произвольной власти, но таковым может быть только гражданин полиса, вне которого живут лишь боги и звери. Свобода присуща лишь гражданам полиса, и если раб принадлежит хозяину, то свободный – полису. Свобода мыслится как коллективная ценность. Гражданин свободен потому, что является частичкой свободного полиса. Поэтому не отдельный человек, а полис, как совокупность людей, является высшей ценностью. У древних греков и римлян не могло сложиться представление об автономности личности, об индивидуальной свободе. Понятие «персона» появляется только у поздних стоиков, да и то как этическая ценность. Свобода понималась как общий правопорядок, а права граждан являлись производными от него и не имели самостоятельного значения. Свобода – это состояние, противоположное анархии и хаосу. Право водворяет в обществе порядок, спокойствие, доверие между людьми. «При господстве хороших законов человек спокойно ложится спать и спокойно просыпается, не опасаясь неприятностей, вытекающих из политических перемен, и спокойно занимаясь своим каждодневным трудом». [11] Цит. по: Алексеев Н. Н. Идея государства. Нью-Йорк, 1955. С. 42.
Но поскольку это возможно лишь в полисе, то полис, а не отдельный человек, является самоценностью. В отношении отдельного человека доминирует идея личного долга, а не личного права. Когда же античные мыслители обращаются к индивиду, к отдельному человеку, они приходят к отрицанию права и порядка, как, например, младшие софисты, или к идее «ухода» из общества, как эпикурейцы.
Вместе с тем в античном правопонимании был заключен огромный потенциал, который реализовывался на протяжении столетий, не исчерпал он себя и сегодня, поскольку не может исчерпать себя право.
§ 2. Архетип концепции правления права нового времени
Начать данный параграф следует с краткого анализа особенностей средневекового правопонимания, во многом послужившего отправной точкой для создания светских политико-правовых теорий Нового времени. Античные идеи не были забыты в эпоху средневековья, напротив, Платон, Аристотель, Цицерон были весьма авторитетными авторами. Античные представления о праве и политике, как, впрочем, и вся философия, храстианизировались, в чем-то объединяясь, в чем-то получая дальнейшее развитие. Надо отметить, что эпоха средневековья, давшая многие примеры величия человеческого разума, все же для развития права и соответственно правопонимания не создавала необходимых условий. Роль права в жизни общества сокращается прямо пропорционально сокращению обменных отношений, в которых люди выступают не иначе, как равные и свободные субъекты. Феодальная раздробленность, сословность, партикуляризм вытесняли право из человеческих отношений. Разумеется, полное уничтожение права как равной меры невозможно, но вполне возможно сокращение его роли в обществе. И, что существенно для нашей темы, свертывание обменных отношений способствует восприятию права как силы и принуждения, прежде всего, ибо и на практике сила объявляется правом. Поэтому феодальное «кулачное право» лишь условно можно называть правом.
Вообще средневековая правовая концепция была построена на противопоставлении позитивного и естественного права. И если у Цицерона, например, такое противопоставление было вызвано неудовлетворенностью реальным положением дел в правовой сфере, то у средневековых юристов оно являлось элементом общего мировоззрения. Позитивное и естественное право находились примерно в таком же соотношении, как «град земной» (человеческий, греховный) и «град божий». Христианизация античной теории естественного права началась с Августина Блаженного и получила законченное выражение в Фомы Аквинского, сформулировавшего, по сути, концепцию правления божественного закона как божественного разума и божественной воли. Человеческий закон необходим вследствие греховности человека, человека порочного необходимо направлять к благу силой, угрозой наказания – здесь незаменим человеческий позитивный закон. Но в силу ограниченности и несовершенства человеческого разума человеческие законы нередко несовершенны, порочны, несправедливы и поэтому могут противоречить божественным установлениям. В этом случае позитивные законы не только не обязательны для исполнения, но и не должны исполняться, ибо повиноваться нужно Богу, а не человеку. Аквинат определяет иерархическую соподчиненность законов, наделяя высшей силой вечный закон, выражающий божественную волю. Таким образом, у Фомы Аквинского правит вечный божественный закон посредством человеческих позитивных законов либо непосредственно, помимо человеческого закона, если последний ему не соответствует. Позитивный человеческий закон вторичен, он необходим для людей порочных и связывается, прежде всего, с принуждением и насилием, посредством которых можно добиться воспитания добродетельного человека. [12] См.: Нерсесянц B. C. Указ. соч. С. 182.
Интервал:
Закладка: