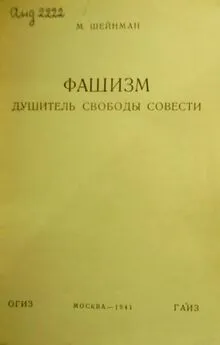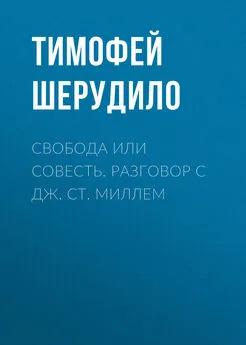Азер Мамедзаде - Свобода совести. Истоки, становление, правовая охрана
- Название:Свобода совести. Истоки, становление, правовая охрана
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Юридический центр»
- Год:2013
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-94201-665-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Азер Мамедзаде - Свобода совести. Истоки, становление, правовая охрана краткое содержание
Рассмотрены основные положения уголовно-правовой доктрины об ответственности за посягательства на свободу совести, дан анализ основных тенденций и проблем уголовно-правовой охраны свободы совести в законодательствах Российской Империи и Азербайджанской Республики. Проведено сравнительно-правовое исследование современного иностранного уголовного законодательства по изучаемому вопросу.
Монография представляет научный интерес не только с историко-правовой точки зрения, но и с позиции влияния различных подходов к осмыслению феномена «свобода совести» и формированию его современного понимания. Она может быть полезна студентам, аспирантам, преподавателям, религиоведам, юристам, законодателям и всем, кто интересуется проблемами религии и права.
Свобода совести. Истоки, становление, правовая охрана - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Но дозволение протестантам построить в Москве каменные кирки не было равносильно дозволению пропагандировать протестантство, хотя не было прямого запрещения обращать в протестантство неправославных, т. е. иноверцев (395, с. 410). В строгие рамки в отношении пропаганды было поставлено и католичество. «Русские государственные люди, – говорил Д. Толстой, – весьма разумели дух этого учения и очень верно провели черту между религией и пропагандой, между духовными нуждами католиков и кастовыми притязаниями их духовенства: римско-католики могли молиться по обрядам их веры и иметь для этого своих священников, но не принадлежащих к монашеским орденам, учрежденным по большей части для распространения католицизма; они и в России оставались католиками, никто не принуждал их переменять веру, но за то было решительно воспрещено католическим духовным совращать православных».
Таким образом, вопрос о свободе вероисповедания Московское государство фактически решало так: оно не преследовало личных религиозных убеждений и относилось терпимо к вере иностранцев: оно допускало, безусловно, свободу домашнего богомоления и до некоторой степени даже общественного, но за то решительно воспрещало пропаганду иноверия среди русских, оставляя, впрочем, открытым вопрос о пропаганде иноверия среди неправославных. На почве этого фактического решения вопроса в XVIII в. возникло решение юридическое, начало которому было положено петровским указом 16 апреля 1702 г., коим фактически отношения предыдущего времени были возведены в отношения правовые (260, с. 116–117).
Немало перемен в эпоху Петра I (1682–1725 гг.) выпало и на долю раскола. Манифест 16 апреля 1702 г. дал свободе вероисповедания юридический характер. Но дозволяя свободу богослужения, Петр Великий далек был от мысли допускать пропаганду иноверия среди православных и неодобрительно относился к таким лицам. «Хулители веры, – говорил он, – наносят стыд государству и не должны быть терпимы, поскольку подрывают основания законов, на которых утверждается клятва, или присяга, или обязательство». Право пропаганды предоставлялось одной лишь православной вере, причем ее распространение среди инородцев сопровождалось предоставлением последним разного рода льгот. Впрочем, Петр I настойчиво требовал, чтобы крещение инородцев не было насильственным, и даже издал с этой целью несколько указов. Но эта терпимость Петра I к вере других не относилась к раскольникам. К ним было двоякое отношение. С одной стороны, он покровительствовал Выговской пустыне и Стародубским раскольникам, с другой – принимал ряд суровых мер, направленных против раскола. Такое шаткое положение раскола объяснялось тем, что раскол не приурочивался ни к какой иноземной национальности, он был упорным отступлением от православия, а потому и нельзя было распространять на него принципы вероисповедной политики, принятые Петром I по отношению к другим верам. В лице раскольников Петр I видел противников всех его нововведений. Раскольники, в свою очередь, питали непримиримую ненависть к Государю, давали ему стойкий отпор и, тем самым, заставляли его прибегать к мерам более строгим.
Так, в 1685 г. были изданы «указные статьи о раскольниках», содержание которых сводилось к следующему: «1) упорных раскольников, которые с пыток упорно будут стоять в расколе, а покорение святой церкви не принесут, их за такую ересь по трикратному у казни допросу, если не будут покоряться сжечь в срубе и пепел развеять; 2) покаявшихся посылать в монастыри на покаяние; 3) подстрекателей к самосожжению – жечь; 4) перекрещивающих и первое крещение называющих неправым – жечь без всякого милосердия; 5) перекрещенных, если они будут виниться без всякой противности, наказывать кнутом и отсылать к епархиальному архиерею для эпитемии; не покоряющихся наказывать смертью; 6) оговоренных в расколе, если это окажется справедливым, бить кнутом и сослать в дальние города; 7) за недонесение и понаровку раскольщикам чинить жесточайшее наказание» (260, с. 148). После этого указа раскольники избегали объявлять себя и записываться в двойной подушный оклад. В результате явилась масса «потаенных раскольщиков», которые преследовались весьма строго, особенно в первую половину XVIII столетия (260, с. 209). За ересью в этот период признавалось, главным образом, религиозное значение и каралась она высшей мерой наказания – смертью через сожжение.
Значение петровского законодательства (Воинские Артикулы, Морской Устав и множество указов) в истории наказуемости религиозных преступлений в том, что оно впервые отступило от религиозной точки зрения на преступления против веры и нравственности, заменив ее узко-государственной, поскольку видело в этих преступлениях не что иное, как одно из самых тяжких нарушений военной дисциплины.
В 1721 г. Петр I ликвидировал патриархат, заменив его Святейшим Правительственным Синодом во главе с Обер-прокурором, который назначался императором. Централизация власти в руках царей, их претензии на богобоязненность и верховенство в церкви, процессы секуляризации ослабляли былой авторитет церкви и ее иерархии, но не настолько, чтобы поколебать традиционную роль церкви – как союзницы самодержавия и позволить выйти на арену общественной жизни. Более того, будучи основным идеологическим символом самодержавия и пользуясь его всяческой поддержкой, православная церковь продолжала наступление против веротерпимости, жестоко душила даже религиозное новаторство, не говоря уже о свободомыслии (236, с. 219).
При преемниках Петра I было издано несколько постановлений касательно евреев, стесняющих их свободное проживание в России. Так, Императрица Екатерина I в 1727 г. велела выслать из России «жидов как мужеска, так и женска пола, которые обретаются на Украине и в других российских городах, и впредь их ни под какими образы в Россию не пускать и того предостерегать во всех местах накрепко».
В царствование Анны Иоанновны (1730–1740 гг.) были изданы некоторые строгие постановления касательно совращения. Так, за совращение в раскол угрожала вечная ссылка на галеры и конфискация всего имущества. Были изданы постановления касательно как католической, так и лютеранской пропаганды, а также о волшебстве (260, с. 215). В своей деятельности Анна Иоанновна в основном следовала политике Петра I и обещала верность православию в манифесте от 17 марта 1730 г.
При Елизавете Петровне (1741–1761 гг.) было издано общее распоряжение, запрещающее евреям жить и селиться в России на том основании, что от них «яко от таковых Имени Христа Спасителя ненавистников, нашим верноподданным крайнего вреда ожидать должно», «от врагов Христовых не желаю интересной прибыли».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
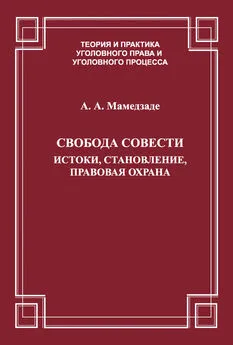


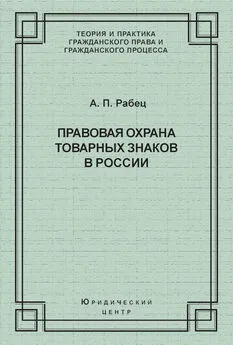


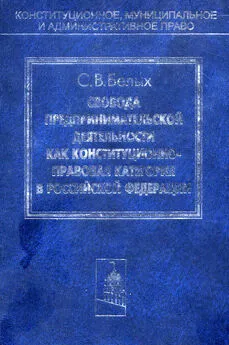
![Стецкевич М.С. - Свобода совести [Невычитанная калибрятина]](/books/1086683/steckevich-m-s-svoboda-sovesti-nevychitannaya-kalib.webp)