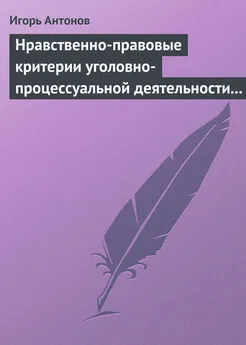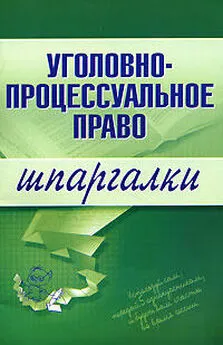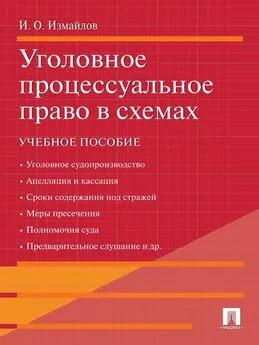Игорь Антонов - Нравственно-правовые критерии уголовно-процессуальной деятельности следователей
- Название:Нравственно-правовые критерии уголовно-процессуальной деятельности следователей
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Юридический центр»
- Год:2003
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:5-94201-181-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Игорь Антонов - Нравственно-правовые критерии уголовно-процессуальной деятельности следователей краткое содержание
Для научных работников, преподавателей, аспирантов и студентов юридических вузов, для лиц, осуществляющих производство по уголовным делам, а также всех, кто интересуется современными проблемами уголовного судопроизводства.
Нравственно-правовые критерии уголовно-процессуальной деятельности следователей - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Согласно ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры России являются составной частью ее правовой системы. В настоящее время нормы международно-правовых актов, предусматривающих основные права человека, в той или иной степени закреплены в Основном Законе страны и уголовно-процессуальном законодательстве. В частности, право на свободу и личную неприкосновенность, право не подвергаться пыткам, право на гуманное обращение и уважение достоинства, присущего человеческой личности, и т. п. (ст. 7, 9, 10 Международного пакта о гражданских и политических правах).
Однако не все нормы международного права о правах человека, затрагиваемых при производстве по уголовному делу, в настоящее время закреплены тем или иным способом в российском уголовно-процессуальном праве. Как поступать при коллизии между требованиями международного договора и закона государства? Подлежат ли непосредственному применению общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры?
И здесь во многом справедливым следует признать высказывание С. Л. Зивса о том, что проблема соотношения международного и внутригосударственного права «монополизирована наукой международного права» [67] Зивс С. Л. Источники советского права. М., 1981. С. 221.
. Вместе с тем в настоящее время вопросам применения международно-правовых положений в российской правовой системе уделяют определенное внимание и ученые процессуалисты.
Итак, необходимо отметить, что вышеуказанное конституционное положение открывает путь непосредственному применению положений международного права в сфере прав и свобод человека в различных областях внутригосударственной деятельности, в том числе при производстве по уголовным делам. Однако как сама возможность, так и условия такого применения являются предметом широкой дискуссии в юридической науке. Так, одни ученые являются категорическими противниками прямого действия международного права внутри страны [68] См., напр.: Cronauer H. Der internationale Vertrag im Spannungsfeld zwischen Verfassung und Volkerrecht. Munchen, 1986. S. 132; Черниченко С. В. Объективные границы международного права и внутренняя компетенция государства // Советский ежегодник международного права. М., 1984. С. 90.
, другие исходят из того, что регламентация внутренних отношений международно-правовыми нормами – достаточно частое явление, и не должно быть никаких принципиальных препятствий для прямого действия международных норм во внутригосударственной сфере [69] См., напр.: Игнатенко Г. В. 1) Международное и советское право: проблемы взаимодействия правовых систем // Сов. государство и право. 1985. № 1; 2) Применение норм международного права в российской правовой системе // Правовая реформа России: проблемы теории и практики. Екатеринбург, 1996; Марочкин С. Ю. 1) Соотношение юридической силы норм международного права и внутригосударственного права в правовой системе Российской Федерации // Российский юридический журнал. 1997. № 2; 2) Действие норм международного права в правовой системе Российской Федерации. Тюмень, 1998.
. При этом наиболее оптимальна позиция третьей группы ученых, полагающих, что включать международные нормы в число непосредственных регуляторов внутригосударственных отношений можно лишь в тех случаях, когда совпадает объект регулирования международного и национального права [70] Курс международного права: В 7 т. М., 1989. Т. I. С. 299.
.
«Главный вопрос непосредственной применимости, – считает A. Коллер, – связан с тем, подходит ли норма договора для того, чтобы быть в распоряжении национального пользователя» [71] Koller A. Die unmittelbare Anwendbarkeit volkerrechtlicher Vertrage und des EWG-Vertrags im innerstaatlichen Bereich. Bern, 1971. S. 119.
. И нормы международно-правовых актов, закрепляющие и обеспечивающие права и свободы человека, подходят для этого как нельзя лучше.
«Однако более предпочтительным, – правильно утверждает B. С. Шадрин, – представляется все же традиционный путь, когда норма международного права проходит стадию трансформации в национальное право, а затем обеспечивается национальными юридическими средствами, поскольку непосредственное применение судами и другими органами, ведущими процесс, норм международных договоров, представляет известную сложность» [72] Шадрин В. С. Обеспечение прав личности при расследовании преступлений. М., 2000. С. 21.
. Кроме того, в России еще не сложились традиции непосредственного применения международных норм и, соответственно, степень осведомленности о них даже профессиональных юристов довольно ограничена [73] Международные нормы и правоприменительная практика в области прав и свобод человека. М., 1993. С. 22.
.
В юридической науке высказываются различные мнения по вопросу о видах и способах трансформации. Так, Е. Т. Усенко исходит из существования двух видов трансформации: генеральной и специальной. Генеральная трансформация заключается в установлении государством в своем внутреннем праве общей нормы, придающей международно-правовым нормам силу внутригосударственного действия. Специальная трансформация заключается в придании государством конкретным нормам международного права силы внутригосударственного действия путем воспроизведения в законе текстуально, либо в виде положений, адаптированных к национальному праву, или путем законодательного выражения согласия на их применение, или иным способом [74] Усенко Е. Т. Соотношение и взаимодействие международного и национального права и российская Конституция // Московский журнал международного права. 1995. № 2. С. 17.
.
Похожую позицию занимает С. В. Черниченко, различающий трансформацию автоматическую и не автоматическую, т. е. требующую принятия специального решения. Если законодательство государства предусматривает, что все международные договоры, в которых оно участвует, являются частью его внутреннего права, то нормы любого международного договора, как только он вступает для данного государства в силу, автоматически трансформируются. Если же законодательство требует для придания договору силы закона, это будет уже не автоматическая трансформация [75] Черниченко С. В. Международное право: современные теоретические проблемы. М., 1993. С. 132.
.
И. И. Лукашук различает прямую и опосредованную трансформацию. «В первом случае правила договора воспроизводятся во внутреннем праве в силу самого акта о ратификации. Нередко эту процедуру называют инкорпорацией, т. е. включением. Договор в целом как бы включается во внутреннее право. Во втором случае на основе договора издается внутренний нормативный акт, с большей или меньшей полнотой воспроизводящий содержание договора» [76] Лукашук И. И. Нормы международного права в правовой системе России: Учебно-практическое пособие. М., 1997. С. 12.
.
Интервал:
Закладка: