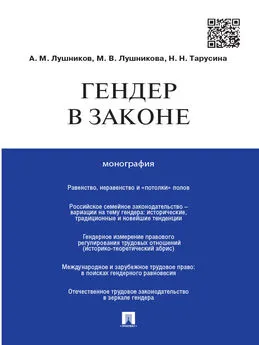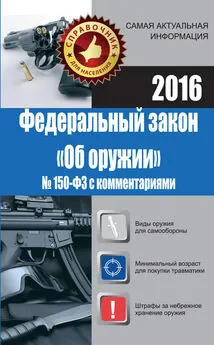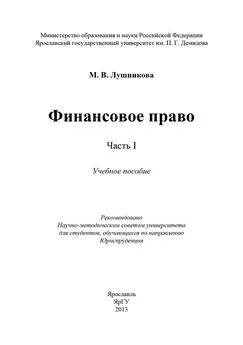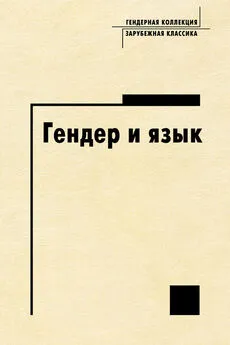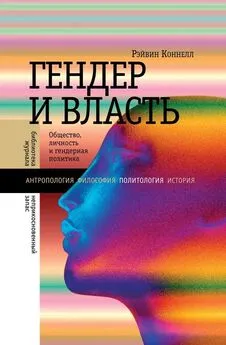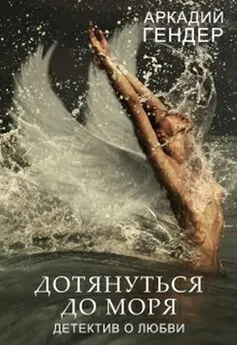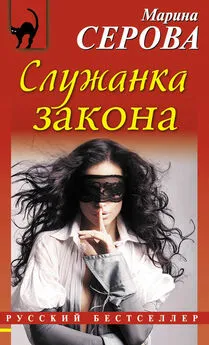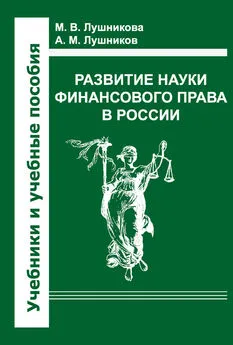Марина Лушникова - Гендер в законе. Монография
- Название:Гендер в законе. Монография
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Проспект (без drm)
- Год:2015
- ISBN:9785392175703
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Марина Лушникова - Гендер в законе. Монография краткое содержание
Гендер в законе. Монография - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
ГЛАВА 1. РАВЕНСТВО, НЕРАВЕНСТВО И «ПОТОЛКИ» ПОЛОВ
1.1. Несколько тезисов о равенстве
Равенство, свобода, справедливость, права человека; неравенство как позитивная дискриминация.
О равенстве мы заняты заботами,
болота и холмы равняем мы;
холмы, когда уравнены с болотами,
становятся болотами холмы.
Игорь Губерман
С одной стороны, равенство видится категорией с весьма простым и очевидным содержанием, с другой – если бы это воистину было так, мы бы, постигнув ее теоретически и реализовав практически, оказались в идеальном обществе и лишились большой литературы, оснований для доктринальных размышлений, юридических экспериментов в законодательстве и правоприменении и многого другого в исканиях своих. Усложнение ее содержания происходит при взаимодействии с другими важнейшими началами человеческого бытия – и прежде всего идеями свободы и справедливости.
Механизм и результативность этого взаимодействия исследовались, исследуются и будут исследоваться. Например, Аристотель выделял два рода справедливого: «справедливое – это то, что велит делать закон» и «справедливое по отношению к другому есть, собственно говоря, равенство» [1]. В главном документе эпохи Просвещения, Декларации прав человека и гражданина (1798 г.), подчеркивалось: «люди рождаются и остаются свободными и равными в правах» (ст. 1). В ХХ в. этот постулат был повторен Всеобщей декларацией о правах человека (1948 г.): «все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах». И далее неоднократно заявлялся в качестве основополагающего в многочисленных международно-правовых документах о правах человека. Однако в сложном соединении с идеями справедливости и свободы он по-прежнему не полон в своем бытии, остается формальным и не всегда гуманистичным, не в полной мере учитывающим многообразие жизни и ее ключевых носителей – европейцев и неевропейцев, мужчин и женщин, взрослых и детей, лиц с инвалидностью etc.
Следование правилу простого («строгого») равенства, кроме приобретения реалий несправедливости, еще и нежизнеспособно, абстрактно. Так, если один индивид имеет определенное количество благ, остальные должны иметь столько же – тогда, доводя данный принцип до логического конца, придется требовать уничтожения тех благ, которые невозможно разделить поровну (или же устанавливать специальные, не всегда, кстати, возможные, правила пользования этими благами); равенство «в чистом виде тождественно виноградникам и кладбищам» [2].
Равенство, как всякое иное явление, имеет «пару», т. е. существует в единстве с неравенством. Это неизолированные друг от друга противоположности, несущие в себе раз и навсегда данные одному положительный, другому – отрицательный заряд: первое отнюдь не всегда обеспечивает справедливость и согласие, а второе – несправедливость и конфликт. Напротив, равенство может быть источником несправедливости и конфликтов, а неравенство – согласия и справедливости [3].
Полагая личность порождением социума, можно интерпретировать неравенство как неравноценность условий развития, несправедливость, ущемление естественных человеческих прав, создание искусственных социальных барьеров и т. д. Полагая же личность активным творцом социума, можно рассматривать неравенство как социальное благо, способ выравнивания стартовых позиций, поддержания потенциала выживания, социальной активности и т. п. [4]. «Имея разные точки отсчета, – отмечают Ю.Г. Волков и И.В. Мостовая, – мы получаем по одному и тому же критерию (справедливости) альтернативные выводы: во-первых, неравенство несправедливо, так как все люди имеют равные права; во-вторых, неравенство справедливо, так как позволяет дифференцированно и адресно компенсировать социальные затраты разных людей». Представление о справедливости как относительно адекватной системе неравенства наглядно демонстрируется в конструкциях: «каждому – по потребностям», «свободу – сильным, защиту – слабым» и т. п., в которых альтернативные социальные требования проявляют общее стремление к «парадоксальному (дифференцированному) равенству» [5]. При этом избежать внутренней противоречивости и взрывоопасности справедливости можно исключительно через процедуры диалога и социального компромисса [6].
Право как один из архиключевых регуляторов общественных отношений, применяя равный масштаб к разным людям лишь в относительно сходных ситуациях, является в этом смысле одновременно и справедливым, и несправедливым (что, впрочем, не выделяет его, с этой точки зрения, среди большинства социальных феноменов). По мысли С. С. Алексеева, феномен нормы «в том и состоит, что при ее помощи в общественную жизнь вносятся существенные элементы единства, равенства, принципиальной одинаковости: вводимый и поддерживаемый юридическими нормами порядок распространяется в принципе «на равных» на всех участников общественных отношений» [7]. Любая норма, в том числе правовая, устанавливает такой масштаб, который далее конкретизируется различными способами – от обычного исполнения до специального (специализированного) правоприменения. Будучи явлением предельно сложным [8]и вбирая в себя богатство цивилизации, право не сводится лишь к общности масштаба поведения. Хотя и последний признается в юриспруденции не только формально равным, но и социально справедливым, отражающим автономную свободу личности [9].
«Выявляя сущность права, – пишет В.С. Нерсесянц, – среди прочего важного обнаруживается принцип формального равенства, который представляет собой единство триады – «всеобщей равной меры регуляции, свободы и справедливости» [10]. Разумеется, правовое равенство является результатом «абстрагирования от фактических различий, присущих уравниваемым субъектам правовой формы общения» [11]. Последние независимы друг от друга, но одновременно одинаково подчинены в правовых отношениях единой общей норме регуляции [12]. «Равенство, – продолжает автор, – имеет рациональный смысл, логически и практически оно возможно в социальном мире именно и только как правовое (формально-правовое, формальное) равенство, фактическое же равенство есть «величина иррациональная», «фантазм» [13]. Только благодаря своей формальности равенство и становится измерителем всей «внеформальной» действительности, определяет меру свободы индивида по единому масштабу, свобода выразима с помощью равенства и воплощена в нем: «Люди свободны в меру их равенства и равны в меру их свободы» [14].
«Право как норма свободы, – пишет В.Д. Зорькин, – по своей природе есть справедливость, или юридическое равенство» [15]. «Принцип формального равенства, выраженный в ч. 3 ст. 17 Конституции, – подчеркивает автор, – задает имманентные праву пределы правовой регуляции, т. е. определяет границы осуществления человеком своей свободы»; возможность реализации свободы человека лишь в границах этого принципа обусловлена тем обстоятельством, что только в пределах его действия, когда один человек равен другому человеку, он может быть независим, а значит, свободен [16]. Комментируя данные контексты взаимодействия, В.В. Кочетков констатирует, что для «юридического разума право, по сути дела, есть некое тождество некоторых феноменов» [17].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: