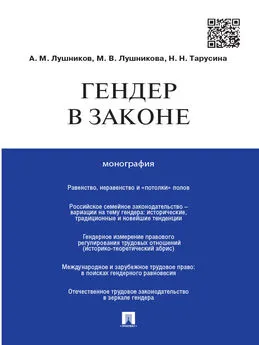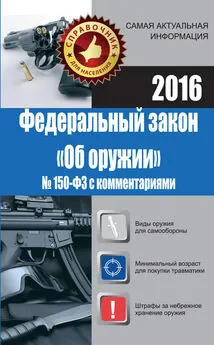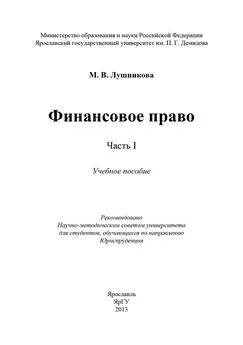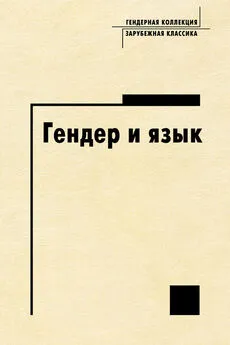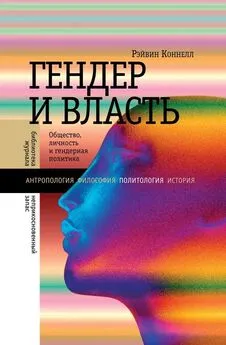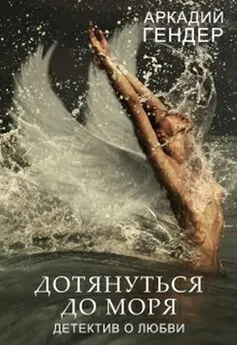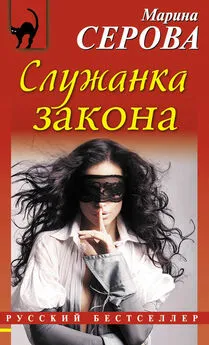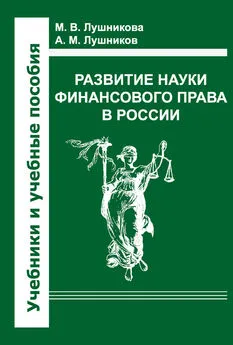Марина Лушникова - Гендер в законе. Монография
- Название:Гендер в законе. Монография
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Проспект (без drm)
- Год:2015
- ISBN:9785392175703
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Марина Лушникова - Гендер в законе. Монография краткое содержание
Гендер в законе. Монография - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Концепция решения женского вопроса в бытовом контексте содержала комплекс предложений по раскрепощению женщин (в значительной степени – утопических): электрическое освещение и отопление избавит «домашних рабынь» от необходимости убивать три четверти жизни на смрадной кухне [418], тем более после создания широкой сети общественных кухонь и общественных столовых и прачечных; детские ясли и сады позволят освободить женщину от огромных энергетических затрат физической и иной заботы о ребенке, а также воспитывать ребенка профессионально, со знанием дела, а не на основе стихийной материнской любви, которая, впрочем, полностью не исключается [419].
Анализируя эти малореалистичные идеи и попытки их воплощения в жизнь, О.А. Хасбулатова приходит к выводу, что прагматичные политики того времени увидели в обобществлении домашнего хозяйства средство решить проблемы продовольственного снабжения населения, удешевления жилищного строительства и его обслуживания и, что еще важнее, – задачу подчинения интересов личности и отдельной семьи интересам государства [420]. А.М. Коллонтай писала, что семья с точки зрения организации хозяйственных отношений «должна быть признана не только беспомощной, но и вредной…» [421].
В то же время А.М. Коллонтай допускала определенную свободу любовных взаимоотношений мужчины и женщины (впрочем, отнюдь не в духе известной «теории стакана воды»): общество «должно научиться признавать все формы брачного общения, какие бы непривычные контуры они ни имели, при двух условиях: чтобы они не наносили ущерба расе и не определялись гнетом экономического фактора…»; возможны и последовательная моногамия, и «целая гамма различных видов любовного общения полов в пределах «эротической дружбы»; она предлагала женщинам не сводить жизнь к любовным эмоциям и семье как единственному смыслу жизни, а распахнуть врата жизни всесторонней, научиться выходить из ее конфликтов, в том числе и любовных, «подобно мужчине, не с помятыми крыльями, а с закаленной душою» [422].
Именно эти взгляды известной большевички были скорее сродни европейскому феминизму (что она отрицала), нежели российскому социал-демократизму, они получили негативную оценку со стороны товарищей по партии. (Валери Брайсон, анализируя труды А.М. Коллонтай, подчеркивает, что ее идеи о свободе любви являются не проповедью случайных связей или «теорией стакана воды» (как полагал В.И. Ленин по воспоминаниям К. Цеткин), а скорее попыткой «распространить марксистскую теорию на сферы жизни, которые прежде считались теоретически неинтересными и практически неважными» [423].
По мысли О.А. Ворониной, видимая прогрессивность раннесоветской эмансипаторской практики не меняла истинного смысла этих преобразований: не эмансипация женщин как таковая была главной целью гендерной политики, а построение гендерной системы нового типа, разрушение жесткой экономической и правовой зависимости женщин от власти мужчин (отцов и мужей) со стороны государства способствовало переподчинению женщины непосредственно самому государству, выравниванию ее трудовой энергии с трудовой энергией мужчины [424].
Тем не менее в отличие от многих других отраслей семейное законодательство еще некоторое время продолжало развиваться в прогрессивном направлении. Была начата подготовка проекта нового кодекса, положения которого активно обсуждались общественностью.
Наибольшее внимание привлек к себе вопрос о значении регистрации брака, а следовательно, о юридическом признании фактического супружеского союза. Первая была объявлена явлением временным – способом борьбы с церковным браком, второй – сущностно сопоставимым с «законным» браком, а защита его – необходимостью обеспечения интересов все еще нередко угнетенной стороны – женщины. Это требовало правовой охраны фактических брачных отношений [425], что и было осуществлено Кодексом законов о браке, семье и опеке 1926 г. (КЗоБСО) [426]. Статус фактических супругов (не состоящих в зарегистрированном браке) был в целом приравнен к «законному» браку (ст. 12) [427]. Кодекс 1926 г. ввел также режим общности имущества супругов, нажитого в браке (ст. 10). Норма Кодекса 1918 г. о раздельном режиме была направлена против неравноправия женщины, против буржуазных представлений, утверждавших главенство мужа в режиме имущественных отношений супругов. Но вскоре выяснилось, писал Г.М. Свердлов, что… провозглашение только раздельности имущества нередко ущемляет интересы трудящейся женщины, несправедливо отстраняя ее от права на то имущество, которое нажито в браке [428]. Д.И. Курский уточнил мотивацию данной новеллы: «жена рабочего, хозяйка, ведет все домашнее хозяйство, занимается воспитанием малолетних детей и этим участвует в общем хозяйстве, а при разводе ничего не получает потому, что муж-рабочий, разводясь с ней, берет все с собой»; потребность общности режима выявлена еще судебной практикой 1922 г. – по делам, где жена ограничивалась работой только по обслуживанию семьи, не принося доходов извне, но производя, однако, «полезную работу, вполне соответствующую работе мужа…» [429]. Таким образом, de jure была признана социальная ценность работы по дому (разумеется, если ею занимался муж, в порядке «эксклюзива» отношений, новелла была призвана защитить и его интересы; с формально-юридической точки зрения не запрещался и вариант равноправной «гармонии» в домашнем труде…).
Через 10 лет после принятия Кодекса, одного из самых либеральных семейных законов России (а в мировом масштабе и в те времена – архилиберального), идеология и методология семейно-правового регулирования стала кардинально меняться: возобладали публично-правовые начала и содержательная жесткость нормативных предписаний. 27 июня 1936 г. было издано постановление ЦИК и СНК СССР «О запрещении абортов, увеличении материальной помощи роженицам, установлении государственной помощи многосемейным, расширении сети родильных домов, детских яслей и детских садов, усилении уголовного наказания за неплатеж алиментов и о некоторых изменениях в законодательстве о разводах» [430]. Г.М. Свердлов подчеркивал, что оно «представляло собою одно из ярчайших проявлений культурно-воспитательной функции социалистического государства» [431]. Разумеется, та часть постановления, которая предполагала цель улучшения демографической ситуации и укрепления семьи позитивными методами (пособиями на ребенка, фиксированными размерами алиментов в процентах, даже некоторым усложнением процедуры развода), в целом и имела положительный вектор развития. Однако запрет абортов (отмененный, кстати, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 ноября 1955 г.) в слаборазвитой стране, как справедливо подчеркивает М.В. Антокольская, население которой не имело даже самых элементарных представлений о планировании семьи, привело к их массовой криминальной составляющей с тяжелыми последствиями [432]; страх уголовного наказания (уголовная ответственность была введена в отношении как «исполнителей», так и «заказчиков» операции) – к многочисленным смертям женщин из-за необращения за медицинской помощью в случае тяжких осложнений после аборта. Суждения ряда юристов 1930—1950-х гг., отмечает М.В. Антокольская, цитируя в качестве примера, в частности, выдержки из научной статьи Г.М. Свердлова, напоминают скорее образцы идеологем героев Дж. Оруэлла, нежели теоретические работы по семейному праву [433].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: