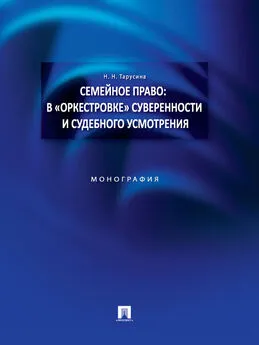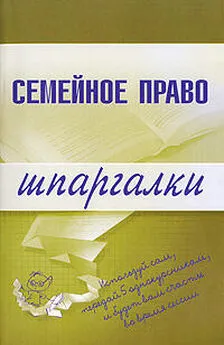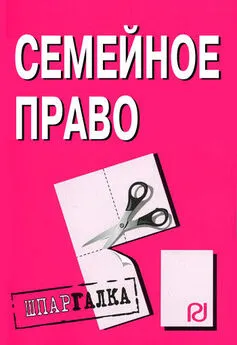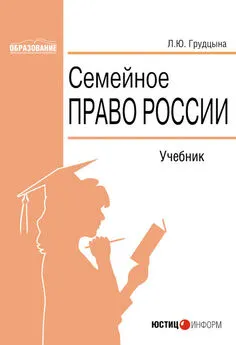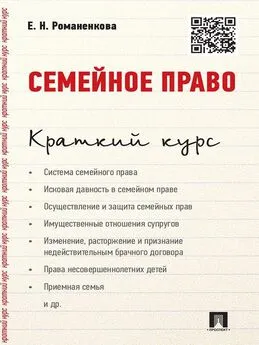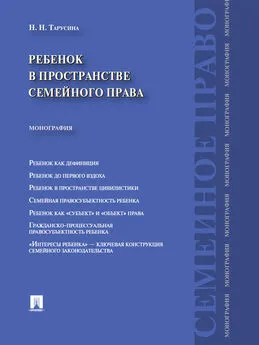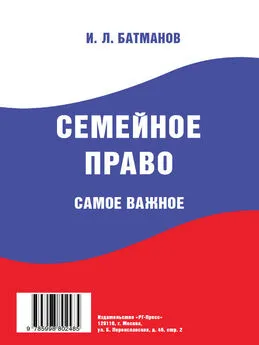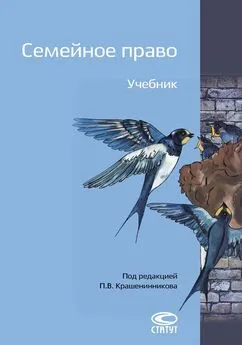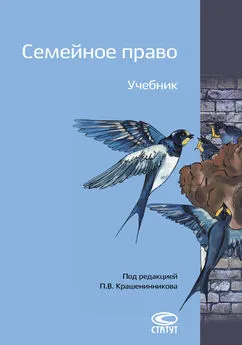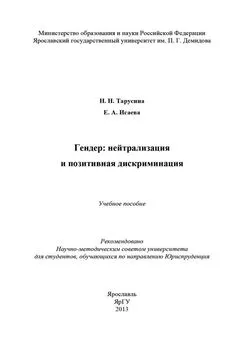Надежда Тарусина - Семейное право: в «оркестровке» суверенности и судебного усмотрения. Монография
- Название:Семейное право: в «оркестровке» суверенности и судебного усмотрения. Монография
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Проспект (без drm)
- Год:2013
- ISBN:9785392136872
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Надежда Тарусина - Семейное право: в «оркестровке» суверенности и судебного усмотрения. Монография краткое содержание
Семейное право: в «оркестровке» суверенности и судебного усмотрения. Монография - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Различия, полагает Г. Л. А. Харт, в основном сосредоточены в другом: во-первых, ряд нормативно-правовых предписаний обусловлены иными потребностями, например технологического характера [184]. Во-вторых, они довольно часто устаревают, утрачивают свое социально-регулятивное основание. В-третьих, соответственно систематически изменяются, отменяются или заменяются другими, моральные же правила невозможно ни вызвать к жизни, ни изменить, ни упразднить подобным способом («с 1 января стало аморальным делать то-то и то-то»); в то же время они не обладают абсолютным иммунитетом от других форм изменения. В-четвертых, они различаются как по формам оправдания, так и по формам давления на индивида [185]. В то же время, продолжает ученый, обязанность и долг, являясь краеугольным камнем нравственности, не составляют ее единственное содержание: существуют моральные идеалы (их реализация воспринимается уже не как само собой разумеющееся, а как свершение, заслуживающее похвалы [186]) и добродетели (щедрость, умеренность, терпение, совестливость и т. п.), которые позволяют «средним людям» идти несколько дальше, чем того требует долг [187]. Кроме того, мораль может быть дифференцирована по стратам, классам – и в позитивном и в негативном контексте такой дифференциации [188].
В классическом, общеправовом, значении нормы права должны быть морально обоснованы, иметь своего рода легитимацию с позиций господствующей, общепринятой морали [189], хотя и не рассматриваться в прямолинейной зависимости – всего лишь как «минимум морали», – ибо возможна и обратная связь – воздействие на процесс эволюции моральных ценностей [190], работа правовых, в том числе семейно-правовых, норм «на опережение» (например, в области ряда запретов на вступление в брак, в репродуктивной сфере, путем расширения возможностей ребенка влиять на решение вопросов, касающихся его жизни в семье и его личного статуса) [191].
С одной стороны, «нравственность – неиссякаемый чистый родник в грязном житейском море…», «духовная оппозиция неприглядной обывательской жизни» [192]с той или иной степенью ясности и жесткости фиксированная в нормах морали – устных и письменных. Ни право, ни мораль не ограничиваются предметно обособленной сферой социальных отношений, хотя последняя более универсальна, всепроникающа и является «оценщиком» первого. Моральность права, подчеркивает Е. А. Лукашева, – проявление его ценностной характеристики; право – категория этическая, к нему приложимы все оценки с позиций добра, зла, справедливости и др.; моральное измерение права – его органическая необходимость [193]. И в этом смысле их значение для правовых норм (в том числе а, может быть, и прежде всего [194]семейных) непреходяще и благотворно [195].
С другой стороны, правоведы опасаются «беспредела морализирующей вседозволенности», вооружения морали средствами права для «крестовых походов» и «жертвоприношения» ради будущего [196]. Подобные опасения, впрочем, адресованы скорее «силовым» отраслям права, а не цивилистическому семейному праву [197].
Нравственная обусловленность семейно-правовой методологии в настоящее время актуализируется неоднократно отмеченным нами излишне активным проникновением в нее гражданско-правовых компонентов, что усиливает позиции индивидуализма и потребительского интереса [198]– в то время как «золотое правило нравственности» проистекает из учения о должном, из приоритета общественного (или группового, например, семейного) интереса, а не из комплекса прав и претензий [199]; современное «славоправие» индивидов не является абсолютным позитивом – оно «атомизирует» общество, дезорганизует систему управления, служит не только социально слабым, но и социально сильным – и тогда, замечает А. И. Бойко, «под несменяемым флагом защиты прав и интересов частника вновь достают из пыльных сундуков старые общинные ценности, срочно монтируют национальную, а не индивидуалистическую идею» [200]. Впрочем, очевидно, что взаимодействие частного (индивидуального) и публичного (общественного) осуществляется по сложным многоканальным схемам: эгоизм должен быть разумен, а социальная польза не должна эксплуатироваться эгоистичными группами; гармонизацию частных и публичных начал, нравственных и нормативно-правовых (в нашем случае – в сфере возникновения, развертывания и преобразования брака, семьи, попечения над детьми), следует осуществлять на основе взвешенного взаимодействия различных интересов.
Второй вариант соотношения права и морали составляет специфику, прежде всего и именно семейно-правового регулирования: нравственные категории и нормы морали закрепляются непосредственно в семейном законодательстве, становятся содержательными элементами семейно-правовых норм. Например: семейные отношения строятся на «чувствах взаимной любви и уважения, взаимопомощи и ответственности перед семьей всех ее членов»; родители обязаны заботиться о «духовном и нравственном развитии своих детей»; «при назначении ребенку опекуна (попечителя) учитываются нравственные и личные качества опекуна (попечителя)»; суд вправе освободить супруга от алиментной обязанности перед вторым супругом или ограничить ее определенным сроком в случае «недостойного поведения супруга, требующего выплаты алиментов», и. т. д. и. т. п. (ч. 2 п. 1 ст. 1, ч. 2 ст. 54, п. 1 ст. 63, ст. 92, п. 2 ст. 146 СК РФ).
Как справедливо отмечает Б. М. Гонгало, включение в закон подобных положений, может быть, следует даже приветствовать, однако, отдавая себе отчет в том, что «перевести на юридический язык» такие понятия, как любовь и уважение (в семье), еще никогда не удавалось и вряд ли когда-нибудь удастся» [201].
Ядро семейных отношений (в том числе правоотношений), пишет А. М. Нечаева, составляет их духовность, нравственные начала поведения человека; семейное право несет архиважную воспитательную нагрузку, выполняет воспитательную миссию по отношению ко всем гражданам, а поэтому тяготеет не к экономике [202](хотя и не может игнорировать ее, «великую и ужасную»), а к нравственным ценностям и нормам о них.
Рассуждения (и даже резкие заявления) о юридической «пустоте» означенных нами и им подобных семейно-правовых норм с точки зрения формально-нормативных канонов вроде бы основательны. Однако очевидно, что не только в рамках указанного канона право выполняет свои функции. Его «скелет» формально нормативен, но существо гораздо сложнее – тем более существование. Нормы-декларации о должном, в том числе нравственно должном, нужны обществу, а значит, и праву, его «воинствующему оружию и оружию сдерживания», так как примеры, приведенные ранее, свидетельствуют и о возможной классической юридической конкретике правил, в основе которых лежат этические конструкты.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: