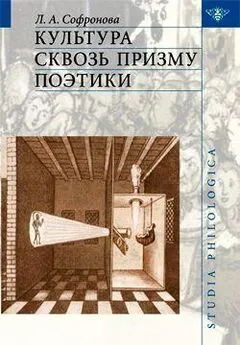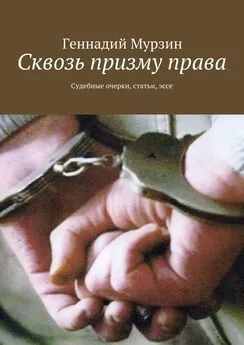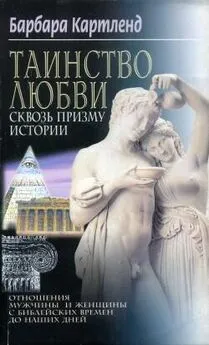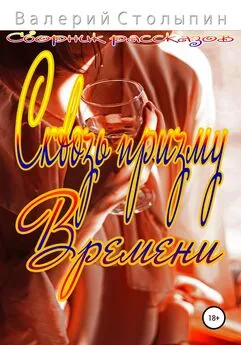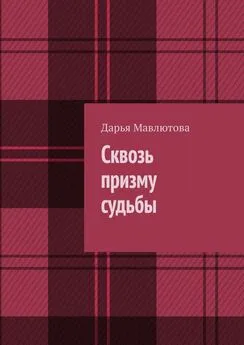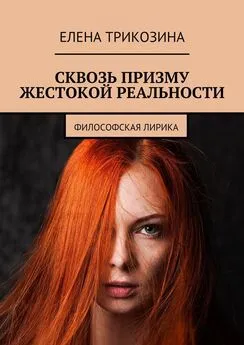Людмила Софронова - Культура сквозь призму поэтики
- Название:Культура сквозь призму поэтики
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Знак»
- Год:2006
- Город:Москва
- ISBN:ISSN1726-135X, 5-9551-0137-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Людмила Софронова - Культура сквозь призму поэтики краткое содержание
Все это проблемы не только истории культуры, но и поэтики Их взаимодействие показано в книге, построенной на материале славянских культур XVII–XX вв. – русской, польской и украинской
Культура сквозь призму поэтики - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Затем Красиньский оставил этот замысел, скорее всего потому, что не хотел однозначного восприятия названия своего произведения. Он стремился вызвать к жизни еще одну смысловую оппозицию, чтобы сделать свое название многозначным и неодномерным. Божественное противопоставляется не только не-человеческому, но и не-божественному (дьявольскому). Сам текст драматической поэмы, в которой представляется сражение сил добра и зла, скрестивших свои орудия над историей, предполагает выбор именно этой оппозиции. Исключить же окончательно в определении – не-божественная – значение человеческого все-таки невозможно, как, конечно, и соотнесенность с Данте. Так название хранит память о великом произведении, явно сакрализованном в культурном сознании, и сразу предлагает различные прочтения произведения Красиньского, одно из которых находится в круге сакральном.
Заданная названием связь с Данте выявляется в принципах строения художественного пространства произведения Красиньского. Конечно, они предопределены средневековой картиной мира, но все же Красиньский явно вторил Данте, а не только устойчивым представлениям о христианском космосе. И здесь, как и в названии, польский поэт проявил большую свободу, переместив ад на землю. Вот как он говорил об этом: «Быть поэтом – это значит предельно направлять современность к прошлому или будущему, землю, с одной стороны, к небу, с другой – к аду» (цит. по: [Kleiner, 1912, 132–133]).
Не только Красиньский задает колебание между сакральным и светским в названии. Точно так же поступает Маяковский, который сразу резко определяет свою позицию к сакральному. Он заранее осмеивает его в названии своей пьесы «Мистерия-Буфф». Это непривычное словосочетание читается как резкое противопоставление светского и духовного жанров, серьезного и смешного. Оно отсылает к старинному религиозному театру, к мистерии, призванной представить на сцене в аллегорико-символическом виде христианскую картину мира и эпизоды священной истории, Рождество и Пасху. Поэтика мистерии разрешает введение смехового начала, которое концентрируют в себе интермедии, изолированные от серьезной драмы.
Можно сказать, что Маяковский пошел по верному пути, когда сблизил светское и сакральное, смеховое и серьезное. Но сделал это таким образом, что соединил несоединимое. Вторая часть названия снимает первую. Поэт, применив прием пародийного цитирования, поставил рядом с мистерией название популярного жанра музыкального театра XVIII в. – опера-буффа. Так он разрушил название устойчивого ядра духовного театра и смешал его с развлекательными формами театральной культуры, отрицая таинство мистерии развлекательным буффа. Он столкнул архаику и современность, что вообще характерно для поэтики авангарда. Поэт не намеревался возрождать давно забытые сакрализованные формы. Он обратился к их названию, чтобы лишить их высокого смысла и в смеховом виде представить сюжет всемирного потопа, который, кстати, никогда не входил в число мистериальных сюжетов. Теперь от потопа спасается не Ной, а враги мировой революции.
Не только в кругу христианства авторы отыскивают сакральные названия, определяющие их замысел. Мицкевич назвал свою драматическую поэму «Дзяды», вынося на первый план название поминального обряда, объединяющего тот и этот мир, обряда, главная цель которого – возродить в памяти ушедшее и соединить его с настоящим. Обряд поминовения, реализуясь на сцене или уходя в глубинные пласты театрального текста, переводит поэму в разряд произведений, тяготеющих к сакральности. О мифопоэтическом начале драматической поэмы «Дзяды», о ее обрядовости мы будем говорить в следующей главе этой книги.
Рассматривая сакральные заглавия светских произведений, мы не раз обращали внимание на эпиграфы, следующие за заглавием и поддерживающие его смысл, встраивающие произведения в высшие этические измерения. Таковы эпиграфы «Воскресения» Толстого, «Дзядов» Мицкевича, «Коня вороного» Савинкова. Они несут важную семантическую нагрузку, как бы подтверждая намерение писателя взять светский текст в сакральную раму. Эпиграфы, в отличие от названия, всегда конкретизируют основной смысл произведения. Рассмотренные нами эпиграфы являют собой сакральные цитаты.
Как пишет С. Кржижановский, старинные эпиграфы обычно были библейскими цитатами и служили как бы «рекомендательными письмами» текста. Эта тенденция продолжается, как видим, и в литературе Нового времени. Исследователь полагает, что эпиграф есть «знак связи новой культуры со старой, символ международного общения разноязыких литератур, а также преемственности сменяющих друг друга литературных поколений» [Кржижановский, 1994, 41]. Мы обратим внимание на некоторые эпиграфы, соединяющие сакральное и светское без опоры на названия.
Они отсылают светское произведение к сакральному кругу культуры, как эпиграф, предпосланный к «Анне Карениной». Он является цитатой: «Мне отмщение и Аз воздам». В послании Апостола Павла к Римлянам сказано: «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Ибо написано: „Мне отмщение, Я воздам, говорит Господь“» (Рим. 12. 19). Эти слова Господа восходят к Второзаконию: «У Меня отмщение и воздаяние» (Втор. 32. 35). Цитата, записанная в эпиграфе, не остается изолированной, так как в тексте романа есть множество отсылок к священному тексту. Здесь, как и в «Воскресении», Толстой цитирует слова Христа о грешнице из Евангелия от Иоанна (Ин. 8. 7).
Также Лермонтов избирает сакральную цитату эпиграфом к поэме «Мцыри»: «Вкушая, вкусих мало меда и се аз умираю». Это слова царевича Ионафана из Первой книги Царств. Ионафан нарушает запрет прикасаться к пище до заката во время сражения, данный его отцом Саулом. Бог поэтому отвращает лицо свое от Израиля. Провинившийся должен понести наказание. Жребий падает на Ионафана. В свое оправдание царевич говорит: «…я отведал концом палки, которая в руке моей, немного меду; и вот, я должен умереть» [1 Цар. 14. 43]. Народ просит царя пощадить его, что и происходит. У Лермонтова слова царевича извлечены из контекста и предваряют романтическую поэму. Они означают краткость жизни Мцыри, ценой которой был куплен единственный глоток свободы.
Итак, заглавия и эпиграфы, взятые из священного текста, формируют смысл светских произведений. Автор отнюдь не всегда оставляет их неизменными и обращается с ними с достаточной свободой. Он ведет с ними большую работу, приближая к светскому контексту или отдаляя и противопоставляя. В них всегда просвечивает тенденция создать особый регистр звучания произведения, выделить его ведущую тему, соотнести с вечными истинами, что и ставит заглавия и эпиграфы в особое положение в тексте и объединяет их с ним. Т. В. Цивьян, анализируя ахматовские эпиграфы, полагает, что их следует рассматривать «как некую единицу авторского текста, то есть не делать принципиальной разницы между ним и „внутренней“ цитацией, реминисценцией, парафразами» [Цивьян, 2001, 189]. Это положение целесообразно распространить и на названия.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: