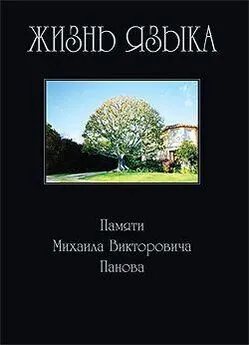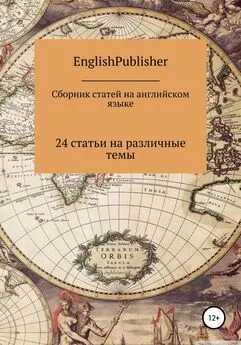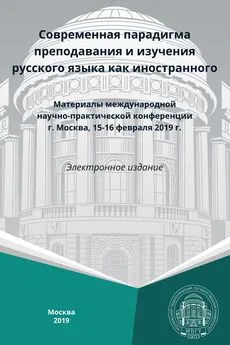Сборник статей - Жизнь языка: Памяти М. В. Панова
- Название:Жизнь языка: Памяти М. В. Панова
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Знак»
- Год:2007
- Город:Москва
- ISBN:1726-135Х, 5-9551-0203-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сборник статей - Жизнь языка: Памяти М. В. Панова краткое содержание
Жизнь языка: Памяти М. В. Панова - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Но, к счастью, Панов-лектор был сохранен для московской общественности. Заведующая кафедрой русского языка МГУ К. В. Горшкова, проявив опасную по тем временам гражданскую смелость, из года в год приглашала Михаила Викторовича читать спецкурсы. Вот на них-то и повалила вся Москва. Самая большая аудитория филфака переполнялась за четверть часа до начала лекции. Сидят на подоконниках, на ступеньках, стоят около доски и преподавательского стола – войти в аудиторию невозможно. Но вот к аудитории подходит Панов. Толпа раздвигается ровно настолько, чтобы пропустить одного человека, и снова смыкается. Лекция начинается – и проходит на одном дыхании.
Студентам университета уже привычно стало видеть на задних партах пожилых людей. Среди них и мы, его первые студенты, «пановские девочки», как нас называли. Но новые студенты смотрели на него такими же влюбленными глазами.
Казалось бы, можно ли слушать одну и ту же тему по орфоэпии четыре-пять раз? Оказывается, у Панова можно, потому что лекции всегда разные и новая лекция всегда интереснее предыдущей: в ней новые имена, новые факты из разных областей науки, культуры, искусства, неожиданные параллели.
Когда Михаил Викторович читал спецкурс по истории русского поэтического языка, каждая лекция становилась событием. Помнится, одна лекция пришлась на 31 декабря. Аудитория почти пустая – всего человек 20. Панов спокойно говорит: «Да, не зря бытует мнение, что Тютчев – поэт для немногих». И начинается таинство поэтических откровений. Выходим – опьяненные тютчевской поэзией и своеобразием его языка. Кто-то говорит: «Каждая лекция – это концерт». Его манера чтения стихов – не актерская, не поэтическая (вспоминается любимая тема Михаила Викторовича: противопоставление актерской и авторской манеры чтения стихов), но здесь она особенная – пановская: тихий голос, монотонная интонация, щемящая печаль в оглушении концовок строфы – и при этом отчетливая слышимость выразительных поэтических средств. А совсем недавно все узнали, что и сам он поэт. Вышел маленький сборник его стихов, написанный в течение большой жизни.
Однако никакой жизни не хватит для того, чтобы реализовать идеи, которые переполняют его лингвистическое сознание. Новые темы рождались из самой жизни. Как-то еще в институте, пробегая мимо него по лестнице, я весело поздоровалась: «Здрась, Мих. Виктч!» Он задержал меня и сказал, намеренно растягивая слова: «Галя, я все жду, когда вы мне скажете: „Здрав-ствуй-те, Михаил Викторович!“ – тогда я смогу поговорить с вами о газете». Это сопоставление разговорного «здрасьте» и размеренного «здравствуйте» было, возможно, началом работы над произносительными стилями. А когда, будучи заведующим сектором современного русского языка, он написал на заявлении сотрудницы об отпуске резолюцию «Надо дать» вместо «Не возражаю», чем вызвал недоумение бухгалтерии, он был поглощен новой тогда идеей функциональных стилей и показал на практике, что деловой стиль не терпит модификаций и состоит из штампов.
Мне посчастливилось быть первой аспиранткой Михаила Викторовича. «Первенькая» – как говорит он иногда. Занятие лингвистикой превратилось в творчество. В этом и состоит преподавательский талант Михаила Викторовича – учителя и ученика объединяет единый творческий процесс, в котором всё общее: и напряженность поиска, и радость открытия. Так, по крайней мере, казалось ученику.
Со мной так было и в институте, когда он руководил моей первой курсовой работой, и в аспирантуре… и потом… да и сейчас. Когда мы обсуждали тему диссертации, он спросил: «А что вы больше всего не любите?» Я призналась: «Морфологию». «Ну, тогда я вам дам тему по морфонологии», – сказал он. С этим я и уехала к себе в Ленинград. Я тогда преподавала литературу в старших классах и, конечно, хотела бы заниматься языком писателей. Но возражать было опасно: при всей нашей любви к Михаилу Викторовичу мы его побаивались. И вот в течение месяца я разыскивала в Публичной библиотеке сведения по морфонологии, перевела статью Трубецкого, но полюбить эту тему так и не смогла. Приезжаю в Москву, рассказываю об этом Панову, а он говорит: «Да что вы, Галя, я же пошутил». И предложил тему: «Ритм прозы». Это было счастливое время, несмотря на полную нагрузку в школе и заочную аспирантуру. Михаил Викторович сам ценил свободу и мне предоставил ее в полной мере. Никогда не подгонял, не торопил. Общение с руководителем – в письмах и открытках. Например, я пишу: «Ничего не сделала. Кажется, что вот-вот схвачу быка за рога, но бык носится как угорелый». Получаю ответ: «Быка за рога возьмете, и не одного. Выбирайте породистого». Когда я привозила отдельные куски диссертации, чаще всего был равнодушен, говорил скучая: «Это интересно», – что означало: плохо. Не сердился и не хвалил. Один раз только был недоволен – потом за это же и похвалил. Как-то в самой середине работы я показала ему таблицы и неожиданно услышала: «Готово. Оформляйте работу». Я стала возражать: ведь у меня еще почти год. «Ничего, – говорит, – будете лежать на печке и плевать в потолок». Так и вышло – диссертацию защитила за полгода до окончания аспирантуры.
Я и сейчас по-прежнему хожу в ученицах. Люблю приезжать к нему, а ухожу каждый раз с зарядом энергии и желанием работать. Он всегда интересен, остроумен и нов. Это и неудивительно: на его столе появляются все новые и новые книги. Говорит: «Как хорошо, что есть „Книга – почтой“». Поистине книги – его друзья; уходишь – и чувствуешь, что он не один. Правда, кажется, что книги отнимают жизненное пространство; они везде, даже на кухне и в прихожей, пирамиды из книг загородили и балконную дверь – единственный выход на воздух. Свободна только маленькая ниша, чтобы спать, и часть стола, чтобы писать.
А на подоконниках – голубые озера нежных фиалок, которые цветут в этой квартире круглый год.
Е.В. Красильникова (Москва). Помню…
После окончания Московского университета в 1973 году я получила направление в Институт русского языка, в сектор современного русского языка, которым руководил Михаил Викторович Панов. Два года я была стажером-исследователем, а затем стала сотрудником сектора. Всякий начинающий принимает на себя разнообразную техническую работу. Так было и со мной. Но с самого начала М. В. организовал для нас (Светланы Кузьминой, Марины Гловинской, Гали Бариновой, Лени Крысина, Ламары Капанадзе и меня) семинар, где читались и обсуждались доклады.
Когда возник вопрос о теме будущей кандидатской диссертации, была выбрана тема «Членимость слова». М. В. представил меня А. А. Реформатскому. Так сложилось, что я защитила диссертацию по плановой теме сектора «Русский язык и советское общество». Но благодаря М. В. возникли и сохранились до конца дней Александра Александровича мои добрые отношения с ним. Позднее мы пригласили в сектор для рассказа о МФШ Владимира Николаевича Сидорова. В университете я написала «исторический» диплом под руководством Петра Саввича Кузнецова. Госэкзамен сдавала Р. И. Аванесову. Так по-разному я начала узнавать «москвичей».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: