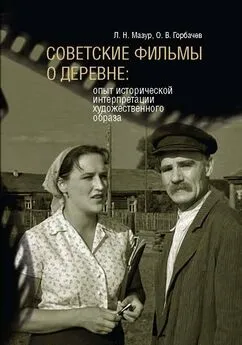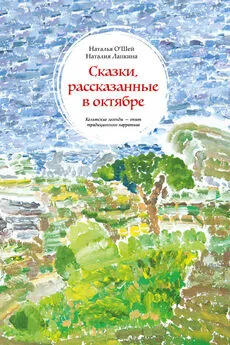Наталия Тяпугина - Поэтика Ф. М. Достоевского: опыт интерпретации
- Название:Поэтика Ф. М. Достоевского: опыт интерпретации
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Стрельбицький»
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Наталия Тяпугина - Поэтика Ф. М. Достоевского: опыт интерпретации краткое содержание
Адресована студентам и аспирантам-филологам, преподавателям-словесникам, всем, кто интересуется русской литературой и творчеством Ф. М. Достоевского.
Поэтика Ф. М. Достоевского: опыт интерпретации - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Во многом это происходит благодаря ритму повествования. Нервный, судорожный ритм метаний и поисков князем Настасьи Филипповны, передающий самые ужасные предчувствия и подозрения, имеет свое композиционно-стилевое решение. Несколько адресов, по которым кинулся Мышкин искать Настасью Филипповну, по возрастающей рисуют нам душевное смятение князя. Нагнетается обилие тревожных подробностей : запертые окна с опущенными шторами в доме Рогожина, за которыми то ли мелькнул, то ли нет их владелец; подозрительное поведение дворника и дикое любопытство людей посторонних. Глаз Мышкина почти машинально фиксирует: тетка в доме взявшейся ему помогать учительши – «тощая, желтая», что на ней черный платок. Коридор в гостинице, где остановился князь, – «тусклый и душный…» То утешаясь малой надеждой, то от горя впадая в рассеянность, «как бы не понимая, о чем ему говорят», то вновь, забыв про усталость, устремляется Мышкин на поиски, кажется, механически прихватывает недочитанную книгу Настасьи Филипповны, почему-то интересуется картами, в которые долгими вечерами она играла с Рогожиным.
Нагнетается атмосфера страха . «Летний пыльный, душный Петербург давил его как в тисках». Эти тиски сжали и душу князя: «… совершенное отчаяние овладело душой князя. В невыносимой тоске дошел он пешком до своего трактира» (602). Отдых в гостинице более напоминает глубокий обморок: «Бог знает, сколько времени, и Бог знает, о чем он думал. Многого он боялся и чувствовал, больно и мучительно, что боится ужасно» (602). И тогда он додумался до самого тяжелого: «Если ему (Рогожину – Н. Т.) хорошо, то он не придет… он скорее придет, если ему нехорошо; а ему ведь наверно нехорошо…» А вот и появление самого Рогожина с его тихим приказом: «Лев Николаевич, ступай, брат, за мной, надоть».
После этого эмоционального контрапункта начинается другое – уже совместное движение героев . Если до появления Рогожина Мышкин находил разрядку своему беспокойству во внешних, физически изматывающих метаниях, то теперь, после лаконичного сообщения Рогожина, что Настасья Филипповна у него, князь целиком отдается переживаниям: он начинает дрожать, сердце у него так стучит, «что и говорить трудно было», ноги подсекаются, «так что почти трудно было уж и идти».
Ужас князя передается и нам, потому что сумрачный Рогожин улыбнулся вдруг «хитрою и почти довольною улыбкой», в то время как чуткий Мышкин отчетливо ощущал в нем» глубокую внутреннюю тревогу». И эти психологические несоответствия рождают самые мрачные предчувствия . Но подтверждаются они не сразу, потому что действие вдруг теряет свою стремительность. Поведение обоих участников сцены замедляется. Они начинают передвигаться тихо и осторожно. Сама темнота, царящая в комнате, переводит события в какое-то таинственное русло, где все самое важное происходит внутри героев. Собственно, даже Настасью Филипповну князь не рассмотрел как следует – это было оставлено до утра – и в мертвом молчании темной комнаты звучат обрывочные разговоры, которые более скрывают, чем проясняют обстоятельства и причины случившегося. Своего рода реплики– знаки. Роль знаков приобретают и все предметы, сопутствующие этому последнему свиданию: цветы, нож, карты… Все это детали, несущие какую-то особую информацию. Возникающие параллельные образы ускользают от понимания, если не увидеть за повествованием какой-то второй реальности, тех универсальных символов, которые воздействуют на человека с наибольшим постоянством и действенностью. И в самом деле, если иначе смотреть на финальную сцену, то просто непонятно будет, что разумел под своим «надоть» Рогожин, когда князю «непременно хотел постлать… рядом», что такое он замыслил, «про себя придумал» еще утром, когда вечером на скорбное бдение всех троих уложил рядом? – На языке символов симметрия означает достижение цели, триумф, высшее равновесие. Да и сама триада, образованная героями, символизирует некую высшую гармонию. И, конечно, не случайно, князь делает три попытки отыскать Настасью Филипповну, а сама героиня трижды бежит из-под венца. Даже выдуманная Рогожиным отговорка, произнесенная его слугой: «Парфена Семеновича нет и, может, дня три не будет» – содержит это сакраментальное число.
Так по законам символической триады соединились высокий рыцарский дух князя (рыцарь и есть символ Логоса, духа), душевная неуспокоенность Настасьи Филипповны и буйные инстинкты Рогожина.
То, что в комнате, погруженной во тьму, происходит нечто большее, чем прощание, ощутимо. На это указывают многочисленные аллюзии . Это, в самом деле, «легкие прикосновения» к вечности. А иначе откуда такая торжественность: Рогожин «подошел к князю, нежно и восторженно взял его за руку, приподнял и подвел к постели…» Очевидно, что разворачивается какой-то важный ритуал. И здесь продумано все: и отсутствие цветов (символ мимолетной красоты); и сама тьма, которая в реальном плане, как и цветы, должна до времени сохранить тайну. Тьма подчеркивает мертвую тишину комнаты, ослабляет нечеловеческий блеск неподвижных рогожинских глаз, приглушает стук сердца князя. Тьма скрывает и саму жертву…
Тьма в финале – это точная психологическая характеристика, выражающая своеобразный «субстрат» страстей. Вот почему лаконичный диалог Рогожина и князя оставляет такое жуткое впечатление:
«– Входи! – кивал он за портьеру, приглашая проходить вперед. Князь прошел.
– Тут темно, – сказал он.
– Видать! – пробормотал Рогожин.
– Я чуть вижу… кровать.
– Подойди ближе-то, – тихо предложил Рогожин» (607).
Эпизод у постели Настасьи Филипповны завершается словами: «Князь глядел и чувствовал, что, чем больше он глядит, тем еще мертвее и тише становится в комнате ». И вот уже так тихо, что можно вздрогнуть от жужжания мухи. Из первобытного хаоса души, из предвечной тьмы рождается постижение смысла происходящего, во всей его полноте и мощи. Мы прикасаемся к источнику, где жизнь встречается со смертью.
Смерть Настасьи Филипповны символизирует конец эпохи, окончание определенного этапа жизни, потому что в ней проявилось стремление к саморазрушению перед лицом невыносимого напряжения. В таком случае смерть имеет ритуальное, жертвенное значение. То, что в романе гибель героини несет в себе эти черты, несомненно. Не случайно автор дал ей фамилию – Барашкова. Агнец – вечный жертвенный символ , означающий периодическое обновление мира: пролилась кровь – самая драгоценная жертва. А смысл любого жертвоприношения, как известно, состоит в том, что жертва умиротворяет грозные силы и устраняет угрозу самых суровых наказаний.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: