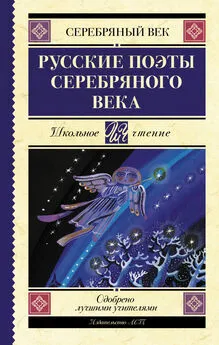Дмитрий Шукуров - Русский литературный авангард и психоанализ в контексте интеллектуальной культуры Серебряного века
- Название:Русский литературный авангард и психоанализ в контексте интеллектуальной культуры Серебряного века
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Знак»
- Год:2014
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9551-0718-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дмитрий Шукуров - Русский литературный авангард и психоанализ в контексте интеллектуальной культуры Серебряного века краткое содержание
Монография адресована филологам и всем интересующимся историей русского литературного авангарда.
Русский литературный авангард и психоанализ в контексте интеллектуальной культуры Серебряного века - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Таким образом, даже последнее слово, даже слово разрушения рассудка, даже слово трагически ненамеренно гулящего в женщине превращается в подтверждение всеединства (курсив мой. – Д. Ш .), которым для неё является любовь [8, с. 57].
В онтологической неравнозначности полов – активного, теургического, мужского и пассивного, восприемлющего, материнского, софийного, женского начал – философ усматривал призыв к воссоединению и преображению плоти как эсхатологическому апокатастасису человечества [107]. Лу Андреас-Саломе воспроизводит эту идею не на богословском, а на психоаналитическом языке:
Эротическое – это всё то, что относится к изначальной силе притяжения, преодолевая при этом существующую разделённость и несходство между телесными и духовными проявлениями его сути, подчеркивая физический момент в духовном и наоборот [6].
Не менее интересным и оригинальным продолжением идей соловьёвской метафизики пола следует признать учение С. Н. Шпильрейн, описавшей возрождение через умирание как универсальный закон жизни.
Психоаналитическое осмысление деструктивных сил, действующих в человеческой психике, началось в 1910-е годы в исследованиях В. Штекеля и К. Г. Юнга. (Именно В. Штекель использовал имя древнегреческого бога смерти «Танатос» для обозначения деструктивного влечения.)
В работе «Деструкция как причина становления» [251], опубликованной в 1912 году, С. Н. Шпильрейн обобщила эти теоретические представления и дала собственную психоаналитическую интерпретацию проблемы существования деструктивного начала в человеческой психике, повлиявшую на позднейшую теорию влечений З. Фрейда.
Естественнонаучная сторона исследования подтверждалась биологическими фактами. (Известно, что русский биолог И. И. Мечников впервые указал на наличие «инстинкта смерти», который, «в потенциальной форме, гнездится в природе человеческой» [149, с. 231].)
Культурфилософская составляющая научного исследования С. Н. Шпильрейн была чрезвычайно насыщенна и включала крайне интересное истолкование наследия Ф. Ницше. Однако структурообразующую роль в работе играл лейтмотив амбивалентного единства любви и смерти, который, безусловно, был связан с культурной парадигмой, восходящей к философии В. С. Соловьёва.
Именно В. С. Соловьёв в трактате «Смысл любви» в развёрнутом виде представил известную древнюю метафору, которая на языке Гераклита звучала так – «Дионис и Гадес – одно и то же» [204, с. 131]. Русский мыслитель обосновывал эту метафору диалектикой индивидуального и родового начал в живой природе. Полнота жизненных сил любого природного организма принадлежит витальной мощи его рода, который, являясь порождающим началом, одновременно несёт в себе и беспощадный закон прекращения жизненного цикла – смерти индивидуального существа. Единство рождения и разрушения, символическим представителями которых у Гераклита стали Дионис и Гадес (Аид), характеризуют, по В. С. Соловьёву, жизненный мир природных организмов на всех его уровнях.
На низших ступенях эволюции в жизненном цикле природных особей рождение и умирание совпадают – в буквальном смысле:
…здесь особи существуют только для того, чтобы произвести потомство и затем умереть; у многих видов они не переживают акта размножения, умирают тут же на месте, у других переживают лишь на очень короткое время [204, с. 131].
Однако по мере возрастания биологического совершенства и органической сложности живых существ природа ограничивает и ослабляет действие этого закона: функция продолжения рода постепенно отделяется и всё более отдаляется от разрушительных законов умирания и смерти.
Цель подлинно эротической любви, согласно его мысли, – преображение пола, побеждающее смерть. В. С. Соловьёв достаточно противоречиво рассуждает на философском языке о том, о чём в принципе необходимо вести речь психоаналитически. До тех пор пока человек размножается как животное, он будет подвержен закону умирания, царящему в животном мире. И даже простое воздержание от родового акта (девство, монашество, скопчество), продолжает мысль В. С. Соловьёв, не избавляет человека от смерти как дезинтегрирующего фактора. Более того, сам факт природной дифференциации полов, не устраняемой внешне физиологическим соединением в половом акте, есть уже свидетельство состояния дезинтеграции и «начала смерти».
С «биологической» аналогии начинается и работа С. Н. Шпильрейн (да и книга Лу Андреас-Саломе начиналась с этой же аналогии!). Причём С. Н. Шпильрейн буквально повторяет мысль В. С. Соловьёва о биологическом единстве жизни и смерти в природном мире:
При зачатии происходит соединение женской и мужской клеток. Каждая клетка при этом уничтожается как единство, и из продукта уничтожения возникает новая жизнь. Некоторые низшие живые существа, например, мухи-поденки, с произведением нового поколения лишаются жизни и умирают. Для них создание – это одновременно и гибель, что, взятое само по себе, есть наиболее страшное для живущего. Если собственная гибель посвящена новому созданию, то она становится для индивида страстно желаемой [251, с. 111].
Таким образом, С. Н. Шпильрейн формулирует концепцию деструкции как причины становления: через смерть, разрушение и гибель зарождается новая жизнь. В акте созидания содержится его негатив – деструкция. Биологический процесс размножения живых организмов, т. е. процесс самовоспроизведения в природе, основан на инстинктах жизни и смерти. Этот биологизаторский подход, очевидно представленный и в работе В. С. Соловьёва, значительно схематизирует само исследование. Однако для нас важно указать на принципиальное методологическое родство и концептуальное сходство исследований С. Н. Шпильрейн и русского философа именно в этом естественнонаучном контексте рассуждений.
Противоречие в концепции «половой любви» В. С. Соловьёва заключается в том, что, с одной стороны, утверждается необходимость преодоления пола в процессе эсхатологического преображения как решающей победы над смертью (влияние учения Н. Ф. Фёдорова), а с другой – декларируется вера в возможность свершить это преодоление средствами самого пола. (Отметим, что у Платона любовь, как её определяет миф об Эроте (в изложении Аристофана – участника диалога «Пир»), также предстаёт в качестве исключительно человеческого стремления, которое для своего осуществления должно выйти за пределы природы человека как единичного существа.) «Эротическая утопия» В. С. Соловьёва (так назвал эту концепцию кн. Е. Н. Трубецкой), продолжая платоновское понимание Эроса как начала любовного влечения плоти, достигающего вершин стремления к идеалу, именно в половой любви открывала силу для победы над смертью.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: