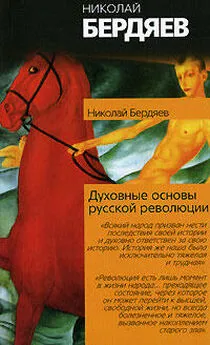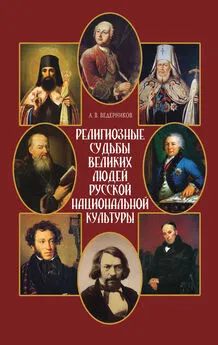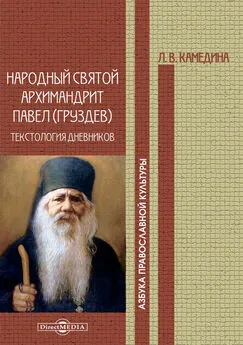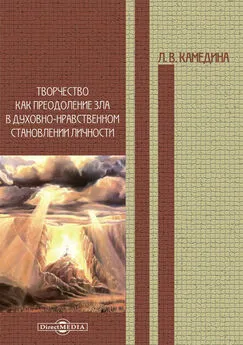Людмила Камедина - Духовные смыслы русской словесной культуры
- Название:Духовные смыслы русской словесной культуры
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Директмедиа»
- Год:2014
- Город:Москва- Берлин
- ISBN:978-5-4475-2570-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Людмила Камедина - Духовные смыслы русской словесной культуры краткое содержание
Духовные смыслы русской словесной культуры - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Таким образом, духовные смыслы контекстов содержатся в авторском контексте, в контекстах художественного произведения и в контекстах читательского восприятия. Тео-аксиологический подход к русской классической литературе предполагает наличие православного контекста как жизни автора, так и его творчества, имеющего своими истоками, среди прочего, древнерусскую религиозную литературу, ориентированную на духовный смысл Священного Писания.
Важную роль в постижении духовных смыслов в тео-аксиологическом подходе играет подтекст . Это невыявленный смысл или смысл, не совпадающий с прямым смыслом произведения, своего рода умолчание. В подтексте утрачивается прямое воздействие слов, и слова перестают формировать внутреннее содержание речи, персонажи начинают говорить и думать не то. Подобное явление называется «вторым диалогом», «принципом айсберга», «подводным течением», а также духовным смыслом .
Подтекст – это не данность, а заданность текста. Подтексты могут быть вполне самостоятельны, они могут входить в художественное произведение чужими сюжетами, мотивами, образами, повторами, в которых рождается новый смысл. Можно проследить историю подтекстов от древнерусской литературы, в которой духовный смысл текста совпадал с духовным смыслом подтекстов, до новой литературы, когда текст и подтексты находятся или в диалогическом, или в амбивалентном, или в ироническом состоянии. Подтексты могут дополнять смысл литературного текста, а могут и разрушать его. Текст может состоять из самостоятельных, независимых друг от друга подтекстов со своими смыслами.
М.М. Бахтин выделяет несколько позиций подтекста [Бахтин, 2000]:
1) позиция вненаходимости, когда автор «позволяет», например, духовному смыслу формироваться в подтексте объективно, исходя от самого Творца;
2) позиция диалога, в которой духовный смысл авторского замысла и духовный смысл художественного произведения могут не совпадать, автор и герой разойдутся в подтекстах;
3) позиция взаимоотношений, когда автор предоставляет герою действовать самостоятельно, а сам «уходит» в подтекст со своим духовным смыслом;
4) позиция потока сознания персонажа^ в которой автор растворяется в своём герое, смыслы рождаются в разных контекстах и подтекстах, бывают разнообразны, в зависимости от мыслей и чувств персонажа.
Выделенные М.М. Бахтиным позиции можно подтвердить конкретными примерами. В древнерусской книжности автор скрывался в позиции вненаходимости, а его место занимал Творец. В идеациональной литературе «подтексты» Творца совпадали с авторским замыслом, с духовным смыслом произведения и духовным отношением к читателю, ибо читатель чувствовал подтексты духовного смысла Творца и автора. В идеалистическом тексте, например, у А.Н. Радищева, позиция автора находится в постоянном диалоге с «единомышленниками», «сочувственниками» и противниками авторских духовных смыслов. М.Ю. Лермонтов, чьи тексты относятся к чувственному типу культуры, занимает по отношению к своим героям позицию взаимоотношения ; духовные смыслы контекста героя Печорина раскрываются только в духовных подтекстах автора. Сам же Печорин живёт своей самостоятельной жизнью. И только в концепции бездарно завершённой жизни героя высвечивается духовный смысл лермонтовского замысла. Для русской литературы XIX в. характерна скрытая авторская позиция по отношению к герою художественного произведения, но зато она раскрывается в «чужих» текстах, символах, снах, речевых клише, пословицах, поговорках, метафорах – это, собственно, и составляет подтексты. Если в идеациональной культуре духовный смысл одного подтекста переносится в духовный смысл другого подтекста, и в этом высказывается отношение к религиозному этикету, к воссозданию духовного этикетного миропорядка (Д.С. Лихачёв), то в чувственной и эклектичной культуре XVIII–XXI вв., напротив, «чаяние нового неба и новой земли» выливается в разрушение этого духовного миропорядка и создание сиюминутной «новой реальности».
Через подтекст можно определить духовный смысл художественного произведения. Подтексты могут содержать смыслы и для контекстов персонажей. Например, в «Повести временных лет» послы к русской княгине Ольге погибают, потому что неправильно отнеслись к подтекстам Ольги. Её загадки, которые содержали ритуал и смысл языческого похоронного обряда, остались не понятыми послами, и послы оказались в ловушке. Также погибнет Германн из «Пиковой дамы», «не разгадав» подтекста карточной игры, в которую были запрятаны автором духовные смыслы сакральных чисел «тройки», «семёрки» и знака «туза». После «тройки» (полноты мира и триединого Бога), «семёрки» (полноты дней Творения) к Германну «приходит» «туз» – дух зла, именно он подмигнёт обманутому Германну. После «полноты» наступят крах, сумасшествие и смерть.
Подтексты могут быть и «чужими». Например, для древнерусского текста такими подтекстами являются болгарский и византийский; для пушкинских текстов – английский, немецкий, французский, испанский. Духовный смысл «чужих» подтекстов либо совпадает с духовным смыслом художественного текста, либо не совпадает, создавая иронический подтекст. Например, в «Повестях Белкина» Пушкин иронией уничтожает смыслы «чужих» подтекстов, сохраняя духовный смысл авторских контекстов и духовный смысл русской жизни своего произведения. Например, «Барышня-крестьянка» – это не что иное, как пародия на европейский сюжет романтической истории Ромео и Джульетты, только разрешённой русским весёлым окончанием.
Подтексты могут переноситься из текста в текст и бесконечно реализовывать свои духовные смыслы. Например, через «нестилизованные подражания» духовные смыслы «Слова о полку Игореве» переносились в «Задонщину» и другие воинские произведения; в XIX в. Л.Н. Толстой перенёс их в свою эпопею «Война и мир», а в XX в. В.В. Быков – в свои воинские повести о Великой Отечественной войне. Подтексты соединяют культурные миры художественных текстов разных эпох. Они подчеркивают единство духовно целостной русской культуры и её смысловой репрезентации в русской словесности.
Подтексты имеют свою повторяемость в духовных смыслах, которые напоминают о вечных основах русской культуры. Духовные смыслы всегда на границах текстов. Граница разделяет и соединяет одновременно. Например, на первый взгляд кажется, что повесть В.П. Астафьева «Царь-рыба» состоит из разрозненных рассказов, несвязных многочисленных контекстов, в которых имеются свои внутренние подтексты. Однако цитата из библейского Екклесиаста, данная в конце произведения, высвечивает всю повесть и её контексты неожиданным духовным смыслом, который был запрятан автором в подтекст библейской цитаты и не выявлялся до конца. После выявления духовного смысла подтекста (с помощью библейской цитаты) всё произведение Астафьева осмысливается уже по-другому, оно требует выхода за пределы повествования в реальность жизни.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: