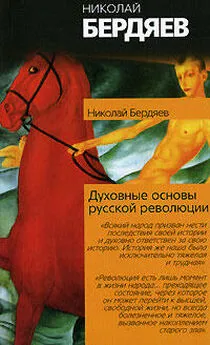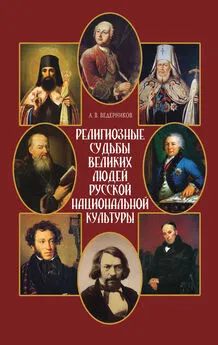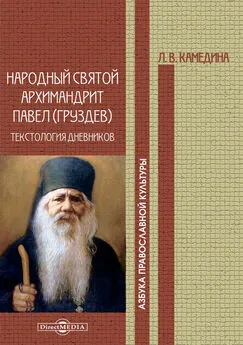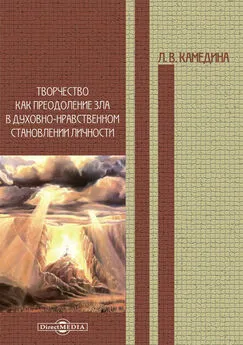Людмила Камедина - Духовные смыслы русской словесной культуры
- Название:Духовные смыслы русской словесной культуры
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Директмедиа»
- Год:2014
- Город:Москва- Берлин
- ISBN:978-5-4475-2570-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Людмила Камедина - Духовные смыслы русской словесной культуры краткое содержание
Духовные смыслы русской словесной культуры - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Интерпретатор выступает в роли помощника автора в том случае, если его мировоззренческие позиции совпадают с авторскими. Однако есть примеры противоположного. Гносеоцентрист Д.И. Писарев не только не видел духовных смыслов литературного творчества А.С. Пушкина, но и вовсе устранял их, да и самого A. С. Пушкина устранял из литературы за недостаточную идеологичность. Гносеоцентрист Н.А. Добролюбов не увидел в пьесе А.Н. Островского «Гроза» духовный смысл трагедии совести и проблемы своеволия, подменив духовную проблематику пьесы на революционную, увидев в запутавшейся в греховных страстях Катерине революционную бунтарку. В данных случаях подходы к духовному смыслу текста осуществляются с позиций автономной тенденциозной критики, без учёта теономии автора и православного контекста духовно целостной русской культуры. Важно истолковывать духовную проблематику художественного текста с позиций тех духовных смыслов, которые заложены в него писателем, и устанавливать их корреляции с кодами и смыслами самого исследования. Например, религиозный Н.В. Гоголь понимается через теономию исследователем B. А. Воропаевым, который знает религиозную символику или код, помогающий раскодировке духовной проблематики гоголевских произведений [Воропаев, 1990, с. 262–272; Воропаев, 1998]. В.Г. Белинский же, применивший гносеоцентрический подход с революционно-демократическими принципами к анализу духовных смыслов литературного творчества Н.В. Гоголя, оказался в нетворческой позиции [Белинский, 1947]. Культурологическое исследование А.П. Давыдова о религиозных смыслах в культурном мире Гоголя уводит в духовный смысл протестантизма, потому что раскол в русской культуре исследователь видит в расколе духа: между православным, исконным, и протестантским, который «шёл» с Запада [Давыдов, 2008]. Гоголь, по мысли
А.П. Давыдова, остался в «русской Реформации» и от этого раздвоения погиб. Д.Н. Овсянико-Куликовский даёт пояснение подобным нетворческим позициям интерпретаторов [Овсянико-Куликовский, т. 1, 1989], подчёркивая несводимость восприятия художественного произведения только к социальным проблемам, а писателя – к «ролевой маске». Художественное создание не есть продукт социальной среды, он – творение души автора. Текст нельзя использовать в качестве средства к достижению какой-нибудь цели, как это делали, например, Д. И. Писарев, Н.А. Добролюбов, Н.Г. Чернышевский, которые вытесняли духовные смыслы тенденциями, угодными революционно-демократическому направлению. Н.Г. Чернышевский, например, был провозглашён «новым учителем». Следовательно, в гносеоцентризме писатель становился «учителем человечества», а текст – «учебником жизни».
Один из аспектов расширения границ понимания – правильная интерпретация художественного текста. Например, драма А.Н. Островского «Гроза» воспринимается в гносеоцентрическом подходе большинством читателей как социально-бытовая; в эстетическом подходе её рассматривают через культурологический пласт смеховой культуры с её оригинальными художественными элементами, вплетёнными в текст драмы. Через теономию читатель увидит глубокие духовные смыслы трагедии совести, греха индивидуального волеизъявления героини. В сочетании всех подходов и взглядов на драму Островского открывается поле бесконечного смыслопорождения. Так рассматривает пьесу русского драматурга А.И. Журавлева [Журавлева, 1988]. Она дополняет эстетические и социальные смыслы пьесы Островского религиозными смыслами. В связи с этим бытовая драма перерастает в иной жанр – трагедию совести. Именно в этом жанре просматривается эпохальный перелом в сознании человека середины ХЕК в., когда появляется новое отношение к миру, основанное на «индивидуальном волеизъявлении», что оказывается несовместимым ни с патриархальным укладом семьи, ни с нравственностью героини. Таким образом, «приращение» нового (религиозного) смысла в гносеоцентрическую и эстетическую интерпретацию пьесы позволяет ставить проблему духовной целостности русской культуры и её смысловой репрезентации как в конкретной драме Островского, так и во всём его художественном творчестве.
Из гуманистических принципов гносеоцентрического и эстетического подходов выпадает такое феноменальное явление, как гений. Гению гуманизм отводит своё место, он рассматривает его не как единичное явление духовного порядка, а, с одной стороны, как результат взаимодействия его внутреннего мира с внутренними мирами его современников, с другой, – как одиночку, который возрос на плечах своих культурных современников, однако остался непонятым в своей гениальности. В эстетической концепции романтиков гений притязает быть Мерилом всего и «судиёй» над всем миром, берёт на себя право переделки мира, становится «вторым богом» (Ф.В. Шеллинг, В.А. Жуковский, Е.А. Баратынский). Например, гений А.С. Пушкина интерпретаторы долгое время оценивали только с эстетической точки зрения: «поэт, художник и больше ничем не мог быть по своей натуре» – констатировал В.Г. Белинский [Белинский, 1947, с. 523], при этом, будучи на гносеоцентрических позициях, признавал в нем выразителя русского национального духа. Эстетическое постепенно переходило в социологическую оценку. Если В.Г. Белинский указывал на большое воздействие поэзии Пушкина на молодое поколение, то, например, В.С. Соловьёв прямо заявлял, что не чувствует никакого «нравственного воздействия на общество» поэзии Пушкина, ибо она есть «чистая поэзия» и больше ничего [Пушкин в русской философской критике, 1990, с. 44]. Начало полемике между эстетической и гносеоцентрической (социологической) оценкой творчества Пушкина было положено П.В. Анненковым [Анненков, 1983]. В спор включились не только «эстеты» и «народники», но также славянофилы и западники, которые тоже считали Пушкина «своим». Поэт был то «другом самодержавия», то его «жертвой», то «другом декабристов», то «ветхим кумиром». Начало «мифологическому» Пушкину положили М.И. Цветаева и А.А. Ахматова. «Мой Пушкин», «наш Пушкин» – все эти высказывания говорят об отсутствии исторической дистанции. Наконец, о Пушкине стали писать просто как о «хорошем человеке», а закончилось всё появлением в русской культуре Пушкина – героя анекдотов. Современный читатель мало осведомлён о жизни и творчестве русского гения. В исследовательской литературе не всегда учитывается полнота контекстов пушкинского мира. Например, христианский контекст художественной картины пушкинского мира некоторые интерпретаторы рассматривают с эстетической точки зрения [Благой, 1977; Бочаров 1999; Томашевский 1990]. Однако Пушкин был глубже поверхностного эстетизма, он ощущал непрерывность многовековой христианской традиции в русской жизни. Он отверг вольтерьянскую насмешку, материализм Гельвеция, немецкую метафизику и чаадаевскую отрицательную оценку русской истории, которую поэт как раз и «не хотел бы переменить». По мнению русского гения, литературное творчество утоляет духовную жажду. Томление духовной жаждой дает одновременно и радость, и любовь. Любить Совершенное – значит желать, узнавать, принимать его и следовать ему, делать его центром своей личной жизни. Человек любит то, от чего он испытывает радость. В.С. Непомнящий справедливо рассматривает гения как целостного художника, прорывающегося к божественным смыслам бытия [Непомнящий, 1999].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: