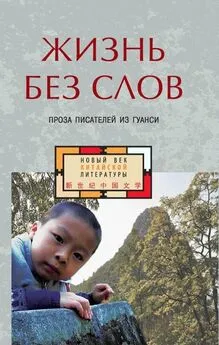Владимир Бибихин - Слово и событие. Писатель и литература (сборник)
- Название:Слово и событие. Писатель и литература (сборник)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Русский фонд содействия образованию и науке
- Год:2010
- Город:Москва
- ISBN:978-5-91244-019-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Бибихин - Слово и событие. Писатель и литература (сборник) краткое содержание
Переиздание книги «Слово и событие» дополнено приложением с малоизвестными или ранее не публиковавшимися работами, а также незаконченным авторским сборником «Писатель и литература», состоящим из работ разных по жанру и времени написания. Что такое литература – сообщение? донос? или сладкий сон, навеянный «счастливо гнущейся строкой»? Зеркало писателя или единственный герой на сцене? Беспредельны ли возможности гибкого, податливо льнущего к вещам слова? Или именно эта гибкость кладет предел зоркости писателя, и последний шаг слова к правде, самый трудный, уже не литература?
Слово и событие. Писатель и литература (сборник) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Полноту языка объясняют отчасти тем, что здесь человеческая деятельность встречала наименьшие препятствия. Нет более податливого материала чем flatus voci. Соссюр: «Прочие общественные установления – обычаи, законы и т. п. – основаны в различной степени на естественных отношениях вещей; в них есть необходимое соответствие между использованными средствами и поставленными целями. Даже мода, определяющая наш костюм, не вполне произвольна: нельзя отклониться далее определенной меры от условий, диктуемых свойствами человеческого тела. Язык же, напротив, ничем не ограничен в выборе своих средств, ибо нельзя себе представить, что могло бы воспрепятствовать ассоциации какого угодно понятия с какой угодно последовательностью звуков» [11] Ф. де Соссюр. Курс общей лингвистики. М., 1977, с. 108.
. Если язык учреждение, то единственное, не требующее радикальной реформы. Это делает его предвосхищением любых других человеческих учреждений, установлений и институтов. Язык простым фактом своего существования обещает полноту освоения мира, о которой все области культуры пока еще только мечтают.
В этом смысле Эдвард Сепир называл язык самостоятельной (самодовлеющей, self-contained) творческой символической организацией, определяющей наш опыт. Сепира безосновательно упоминают рядом с теоретиками «лингвистической относительности», как Бенджамин Ли Уорф, который на свой риск истолковал тезис Сепира так, что язык входит в наш познавательный опыт неустранимым фильтром. У Сепира то, что языком определяется наш опыт, значит наоборот что он как опережающая форма завершенности заранее придает нашему опыту цельность и полноту или по крайней мере подталкивает наш опыт в сторону цельности и полноты, априори ориентируя нас на полноту восприятия, познания и организации вещей. Язык определяет наш опыт благодаря своей формальной законченности, by reason of its formal completeness [12] Е. Sapir. Conceptual categories of primitive languages // Science, 1931, 74, p. 578.
. Язык ориентирует на цельный охват мира, обещает его.
Вот маленький пример, снова очень упрощенный. Нам настолько важно знать имя человека, что невозможно представить чтобы кому-то разрешили остаться совершенно безымянным. Человек может не иметь ничего человеческого и даже не говорить, но нельзя чтобы человек не имел имени, почти так же как нельзя не иметь видимого тела. Незнание имени знакомого человека связано всегда с растущим беспокойством. С другой стороны, нам достаточно знать имя человека, чтобы мы успокоились так, как если бы уже знали о нем главное. Имя опережает всякое другое знание о человеке и всякое отношение к нему. Это первое опережающее знание, на которое как на гвоздь по образному выражению одного лингвиста навешивается всё остальное, никакого или почти никакого содержания не несет и ни к чему не обязывает. Имя провоцирующее предвосхищение знания; если человека зовут Лев, это странно, смешно, наводит на игривые, потом на глубокие и по существу бесконечные раздумья и через них начинает о нем что-то сообщать. Флоренский извлекал из имени сущность, останавливаясь на нем мыслью. Но язык достигает своей формальной полноты только за счет того, что до всякого вдумывания, сколько бы знания ни было скрыто в имени, это знание никогда не обязательно; оно манит и ускользает, как имя Лев манит нас дознаваться о его носителе, ничего не заставляя и не запрещая. Имя не столько картина, сколько сцена для нее. Тем же свойством обладает язык.
Авторитет языка можно было бы назвать авторитетом «общественного установления в чистом виде» [13] Ф. де Соссюр. Курс общей лингвистики…, с. 108.
. В полноте его системы свернуты всё будущие. Его авторитет подпитывается ими. Всякий авторитет любого человеческого института предвосхищен в ненавязчивом авторитете языка.
Слово авторитет происходит от auctor, основатель, податель, вдохновитель, поручитель. Сам язык как полная и одновременно открытая система, предвосхищающе намечающая всё разнообразие познаний, путей и трудов человека, есть в этом смысле auctoritas: первый основатель и вдохновитель всего, в чем осуществляется человек. Язык авторитетен как единственное до сих пор вполне и совершенно удавшееся человеку предприятие, единственная постройка, в которой человеческая мысль уже достигла окончательной полноты и с которой она поэтому может всегда сверять себя, не опасаясь что будет ограничена в своем полете.
Мы говорили, в каком смысле научная лингвистика права, отказываясь рассматривать языковые авторитеты в лице словарей, академий, литературных стилей как образцовую речь в сравнении с повседневной. Но великие поэты и писатели сами не ставят себе цели создания новой словесной среды, они делают пригодной для обитания ту, которая есть. Между Заменгофом и Данте та разница, что первый обошелся с известными ему языками как эксплуататор с полезным сырьем, а второй работал чтобы сделать итальянскую языковую почву культурной. Авторитет языка нуждается в поддержании. Лингвистика много сделала для его расшатывания и тем, что его игнорировала, и тем, что перенесла понятие языка на системы знаков, а главное тем, что сводит фонетику к фонологии, грамматику к логике, семантику к лексике. Самим фактом своего существования лингвистика внушает, что язык не может объяснить себя. Если редукция слова к мысленным элементам удастся, оно будет иметь ценность не само по себе, а только как знак чего-то. Двое разноязыких, встретившись в пустыне, уже никогда не смогут понять друг друга. Заботу о языке возьмет на себя толкователь, и общение, раньше предполагавшее прояснение применяемых знаков по ходу дела, превратится в операцию над сознанием. Язык станет заживо мертвым и, возможно еще существуя номинально, уступит место закрытым знаковым системам.
Авторитет языка поддерживается теми писателями, поэтами, создателями словарей, кто способен видеть в слове вещь, а не инструмент, опережение любых созданий культуры. «Все люди считают слова знаками, но поэты – последние среди людей, которые еще знают, что слова являются также ценностями» [14] К. Леви-Строс. Структурная антропология. М., 1980, с. 147.
. Поэтический смысл реабилитирует слово, он способен вернуть жизнь стершейся лексике и термину. Художник «освобождается от языка в его лингвистической определенности», т. е. от застывшего в нормативном словаре, «не через отрицание, а путем имманентного усовершенствования его»; «в поэзии язык раскрывает все свои возможности, ибо требования к нему здесь максимальные: все стороны его напряжены до крайности, доходят до своих последних пределов… язык превосходит здесь самого себя» [15] M. M. Бахтин. Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных лет. М., 1975, с. 46–47.
.
Интервал:
Закладка: