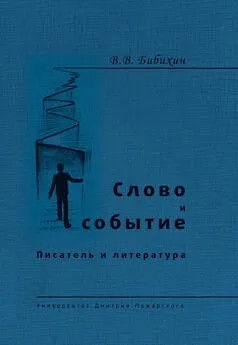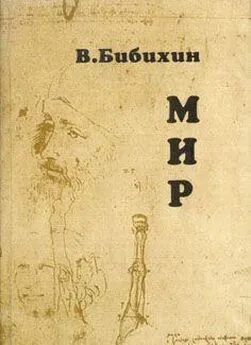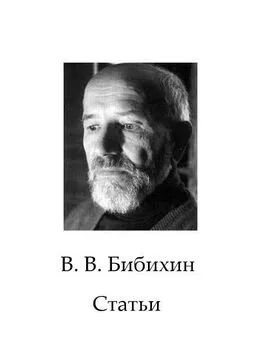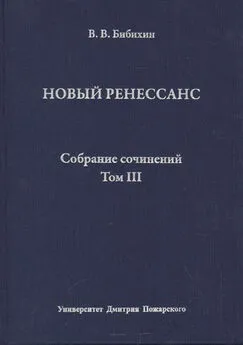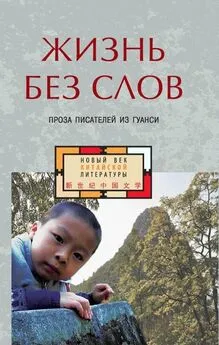Владимир Бибихин - Слово и событие. Писатель и литература (сборник)
- Название:Слово и событие. Писатель и литература (сборник)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Русский фонд содействия образованию и науке
- Год:2010
- Город:Москва
- ISBN:978-5-91244-019-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Бибихин - Слово и событие. Писатель и литература (сборник) краткое содержание
Переиздание книги «Слово и событие» дополнено приложением с малоизвестными или ранее не публиковавшимися работами, а также незаконченным авторским сборником «Писатель и литература», состоящим из работ разных по жанру и времени написания. Что такое литература – сообщение? донос? или сладкий сон, навеянный «счастливо гнущейся строкой»? Зеркало писателя или единственный герой на сцене? Беспредельны ли возможности гибкого, податливо льнущего к вещам слова? Или именно эта гибкость кладет предел зоркости писателя, и последний шаг слова к правде, самый трудный, уже не литература?
Слово и событие. Писатель и литература (сборник) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Похоже, какие-то вещи вообще никуда не собираются уходить. 18-й век у Седаковой назван не как одна из дат, а в том же смысле, в каком у Пушкина Петр целая мировая история. Тридесятое царство, страна Берендея уточняют статус и эпоху страны, которая сейчас вроде бы увлеклась свободным рынком. Пещеры взглядывают глазами голодных старушек.
Существом деревни остается несчастье без мер. Оно не измеряется голодом и нищетой, не в них заключается. В чем тогда. Его имена у Седаковой странным образом счастливые. Тридесятое царство не обязательно бездольное, страна Берендея процветала. Названия стало быть иронические? Нет, на таком уровне письма ирония не живет. Райская страна Берендея безмерно несчастна отчетливостью, с какой ее нет и с какой в разлуке с нею ничто в деревне детства не хочет быть. Страна Берендея вынесена в рай, и то, откуда она вынесена, и те, кем она вынесена в рай, надежно и прочно оставлены в немыслимом несчастье.
Говорить о себе в поэзии земля позволяет тем, что погружена в горе не частной бедой, а уверенным изъятием рая.
О, такое несчастье, что это, казалось,
не несчастье, а верная весть:
ничего на земле, только горе осталось;
правда – горе за горем и есть.
Рай изъят вполне, бесповоротно и окончательно. Чистота рая сохраняется уверенной полнотой его изъятия и тем, что на земле без него не остается ничего, только горе. Правда этой земли тогда горе за горем. Это горе вынесенного рая. Он вынесен за пределы земли; и он вынесен этой землей в чистоте своего отсутствия. Единственно диктует на этой земле рай своим отсутствием. Им он касается всех ближе любых вещей.
Это огненной птицы с узорами рая
бесконечное слово: молчи!
В рот какой же воды набирая,
мы молчим, как урод на печи?
Вопрос звучит как отчаянная брань. Скверное ругательство и святой рай здесь в диссонансе как малые секунды у Моцарта. Так раздирающим, сминающим жестом швыряют ненужную жизнь, когда всё оборвано. После этого заключительная строфа стихотворения шокирует только смыслом. По складу поэтического слова настоящий шок не в ней, а в только что процитированной с ее немыслимым тоном. Райская птица зажимает рот, велит молчать, не жить там, где ее нет.
В какой рот мы набрали воды, ясно отвечено: в тот, который закрыт огненной птицей с узорами рая. Такая птица имеет свойства молнии. Молнию мы узнали как завещанный заповедный закон нашей истории. Древним богом нашей восточноевропейской равнины был Перун. Его свержение совершалось его же жестом, взятым на себя князем Владимиром. Свергая Перуна, Владимир перенимал черты молнии. Он утвердил главным приемом власти темп молниеносного поворота. Он же в классической форме создал проблему с передачей власти. У молнии наследников не бывает.
От запрета огненной птицы освободить могла бы только она. Но она не снимет клятвы.
И от родины сердце сжималось,
как земля под полетом орла,
и казалось не больше земли – и казалось,
что уж лучше б она умерла.
В сказке об орле земля сжимается для человека, брошенного с высоты, сначала в овчинку, второй раз в яблоко. Сказочный орел оба раза успевает подхватить человека. Эти качели сжатия и расширения тоже без мер и без конца. И без слова «молчи» огненной райской птицы от бесконечности падения захватывало бы дух. Падение и без последнего стиха указывало бы на невозможность жить: в брошености не устроишься. Упоминание смерти в самом конце поэтому не пожелание, а констатация: всё так завязано с огненной птицей в перебивающем речь падении, что не рассчитано на жизнь. Рай соседствует со смертью, и еще с чем? с молчанием и поэтическим праздничным словом, которое нестираемо как молчание и так же прочно.
«Деревня в детстве» имеет еще одну (неопубликованную) строфу после «мы молчим как урод на печи» и перед «и от родины сердце сжималось»:
Тени всюду мне близки, но там эти лица
собирались и ночью и днем,
приучая терпеть и молиться
или что-нибудь сделать с огнем.
Огонь горит в глухом молчании страны, в ее сжигающей решимости: если нет рая, то не надо ничего и пропади мы пропадом. Райская птица велит идти до крайности, чтобы его продолжало не быть. Рай смертельно пугает. Всё кроме него ничтожно. Огнем своего отсутствия райская птица обжигает мир. Поэзия угадывает пожар и приказ огненной птицы там, где для постороннего глаза косность и сон. Огня не мало, как бы не слишком даже много. Ничего не надо разжигать. Мы давно на костре.
Что у всех на душе, то у поэта на языке. Близость нездешнего рая убедительно, с нечеловеческой достоверно стью, вот уж действительно лишний раз подтверждается неудачей всякого нашего устроительного усилия. Тем ближе присутствие того, от чего мы всегда далеки. Мы твердо знаем, что то, чем мы всегда обделены, нас не подведет.
1995
Что сильнее
Я читаю известное, может быть самое громкое стихотворение Осипа Мандельштама – об одном из знаменитейших вождей 20-го века – в немецком переводе. Оно названо там эпиграммой. Филологически переводу можно только завидовать.
Und wir leben, doch die Füße, sie spüren keinen Grund,
Auf zehn Schritt nicht mehr hörbar, was er spricht, unser Mund.
Nur zu hören vom Bergmenschen im Kreml, dem Knechter,
Vom Verderber der Seelen und Bauernabschlächter…
Это сатира, горькая, интеллектуальная, нравственно правая, возможно едкая. Есть ли она у Мандельштама? Наверное, но не в первую очередь в его поэзии и всего меньше в этой вещи. Поэт выкрикивает ее так, что почти каждый стих звучит как крылатое слово, как поговорка, над всякой этической оценкой. И он сам первый знает что заговорил до жути громко и, хочет того или нет, сцепился с тираном в опасном поединке. Тот, другой, тоже понял, что произошло исторически непоправимое, неотменимое; что теперь ему придется делить свою мощь с поэтом, которому он против воли уступил что-то от своей громадной, безмерной, немыслимыми поступками добытой власти. Поэт тайно урвал у него первенство силой своего слова, зазвучавшего вдруг вместе с самим языком. Хищение у высшего правящего лица; хуже, единственное по-настоящему удавшееся покушение на историческую личность. Преследовать теперь поэта значило признать факт грабежа, и могущественный имитирует жест пренебрежения. Но вернуть этим унесенное уже нельзя, и он не способен долго сдерживать свою месть.
Поэт тоже, дав говорить языку, сам уже ничего изменить не в силах и его мучительные старания сделать примирительный жест, сочинив хвалебную оду тирану, опоздали, не имеют отношения к делу. Чары не в его власти, ничего не происходит. Оба человека хотели бы взять назад миг отпущения слова на волю, но напрасно, оба по-своему коснулись такого, что выходит за человеческий размах.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: