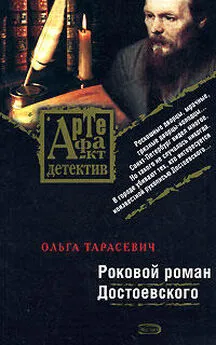Монахиня Ксения (Соломина-Минихен) - О влиянии Евангелия на роман Достоевского «Идиот»
- Название:О влиянии Евангелия на роман Достоевского «Идиот»
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array ИТД «СКИФИЯ»
- Год:2016
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-00025-069-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Монахиня Ксения (Соломина-Минихен) - О влиянии Евангелия на роман Достоевского «Идиот» краткое содержание
До отъезда в США и принятия сана, автор участвовал в подготовке 30-томного академического собрания сочинений Достоевского и может считаться одним из признанных специалистов по творчеству выдающегося русского писателя.
Прекрасный литературный язык, глубокий анализ, интереснейшие теории позволяют рекомендовать эту книгу как профессиональным литературоведам, так и всем тем, кто хотел бы глубже понимать творчество Федора Михайловича Достоевского.
О влиянии Евангелия на роман Достоевского «Идиот» - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В тексте Евангелия от Иоанна 14-й стих XIII главы отчеркнут и отмечен Достоевским знаком NB: «Итак, если Я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу» [38] Хетса. С. 38.
. Художественный такт Достоевского сказывается в том, что здесь, как и в других подобных случаях, он чаще всего дает вводимым в роман евангельским ситуациям обыденную «житейскую» мотивировку, несколько «затемняющую» первоисточник: в данном случае поведение Мари объясняется болезнью матери. Используя сентиментально-назидательный сюжет, Достоевский его интенсивно евангелизирует. Мари наделена чертами подлинной христианки, и образ ее овеян необычайной тихостью. Так, вся портретная характеристика сведена к единственному замечанию Мышкина: «Она, впрочем, и прежде была собой не хороша; глаза только были тихие, добрые, невинные» (8, 59). Кротость, почти бессловесность героини контрастно оттеняется бушеванием страстей вокруг нее, и этот контраст усиливает выразительность рассказа. Прежде чем, благодаря князю, за Мари «вступаются дети» и в отношении к ней наступает перелом, насыщенность ее истории драматическими подробностями достигает «высшего градуса». Пастор всенародно позорит женщину в церкви, объявляя ее причиной смерти матери, затем становится известным, что Мышкин, движимый состраданием, поцеловал Мари, и вся деревня вновь на нее обрушивается. Князь рассказывает: «Я слыхал даже, что ее хотели присудить к наказанию, но, слава богу, прошло так; зато уж дети ей проходу не стали давать, дразнили пуще прежнего, грязью кидались; гонят ее, она бежит от них с своею слабою грудью, задохнется, они за ней, кричат, бранятся. Один раз я даже бросился с ними драться» (8, 60).
На восьми страницах новеллы описанию болезни героини отведено довольно большое место. Сначала читатель узнает, что Мари стала кашлять кровью. Затем подробно рассказывается, как уже очень больная женщина «все-таки каждое утро уходила со стадом» и весь день сидела у отвесного выступа скалы почти без движения. «Она уже была так слаба от чахотки», что могла только дремать, прислонившись головой к скале; «лицо ее похудело, как у скелета, и пот проступал на лбу и на висках» (8, 62). Позднее Мари переносит и полное одиночество, не в силах уже встать с постели. В текст вводятся упоминания о ее грезах, слезах, «ужасном волнении», беспокойном сне, страшном кашле, об ее иссохшей руке… Писатель будет вновь гораздо подробнее говорить о сходных с этими страданиях в связи с чахоткой восемнадцатилетнего Ипполита Терентьева. Но если для юноши смертельная болезнь – главная причина страданий и «бунта», завершившегося попыткой самоубийства, то для Мари она – лишь «фон», на котором проходят многие тяжкие испытания. Перед кончиной они сменяются радостью покаянного примирения с людьми, принятием любовной заботы детей и князя и ее ответной благодарной любовью к ним.
Монолог князя о Мари, самое пространное из его высказываний во всем романе, повышенно эмоционален. Правда, эмоциональность эта особая, как бы чуть приглушенная, из-за тихой проникновенности, которая так свойственна Мышкину, его «голосу» в романе, пользуясь термином М. М. Бахтина. Все приведенные выше цитаты иллюстрируют стремление Достоевского максимально воздействовать на воображение, на сердце, на чувства читателя – установка, характерная для сентиментально-романтической поэтики; влияние ее на творческий метод писателя явственно не только в новелле о Мари, но и на многих других страницах романа. Этого мало изученного вопроса я еще буду касаться в дальнейшем, однако подробное его исследование не является моей целью.
К концу новеллы тональность рассказа меняется, становясь все более умиротворенно-лирической. Придать естественность «беззащитному» самораскрытию героя помогает признание князя, что он рассказывал обо всем в состоянии гармонии с собою, внутренней успокоенности и свободы: «Послушайте, когда я давеча вошел сюда и посмотрел на ваши милые лица <���…>, то у меня, в первый раз с того времени, стало на душе легко. Я давеча уже подумал, что, может быть, я и впрямь из счастливых: я ведь знаю, что таких, которых тотчас полюбишь, не скоро встретишь, а я вас, только что из вагона вышел, тотчас встретил. Я очень хорошо знаю, что про свои чувства говорить всем стыдно, а вот вам я говорю, и с вами мне не стыдно» (8, 65).
Признание это ценно для нас еще и потому, что рассказ героя, им самим определяемый как воспоминание о счастье, открытый разговор о чувствах, вполне оправдывает использование писателем художественных приемов, характерных для произведений сентиментально-романтического стиля. Весь эпизод первого знакомства с Епанчиными строится так, чтобы наиболее полно и «симпатично» представить Мышкина читателю. Он отделывался с особенной тщательностью: ведь, по замыслу Достоевского, князь – хороший рассказчик. Мышкин сам простодушно замечает это о себе, говоря о трехлетием общении с детьми, которые «очень любили» его слушать. Мастерство рассказчика, безусловно, способствовало расположению читателей к главному герою, о чем, как мы знаем, автор бесконечно заботился. Монологу присуща доверительная интимность тона, лирическая взволнованность, усиленная введением риторических вопросов и восклицаний, стремление приобщить собеседника, а тем самым и читателя, к собственным переживаниям и убеждениям: «Ребенку можно всё говорить, – всё; меня всегда поражала мысль, как плохо знают большие детей, отцы и матери даже своих детей. От детей ничего не надо утаивать под предлогом, что они маленькие и что им рано знать. Какая грустная и несчастная мысль! <���…> О боже! когда на вас глядит эта хорошенькая птичка, доверчиво и счастливо, вам ведь стыдно ее обмануть! Я потому их птичками зову, что лучше птички нет ничего на свете» (8, 58). И ближе к концу главы, обрамляя ее, вновь дается метафорическое сравнение детей с птицами. Оно сообщает глубокую поэтичность рассказу о последних днях Мари, всем сердцем отозвавшейся на сострадательную любовь к ней детей и Мышкина: «Через них, уверяю вас, она умерла почти счастливая. Через них она забыла свою черную беду, как бы прощение от них приняла <���…>. Они, как птички, бились крылышками в ее окна и кричали ей каждое утро: “Nous t’aimons, Marie”» [39] Мы тебя любим, Мари (франц.).
(8; 62–63).
Помещенная в начале произведения новелла повествует об исцелении трех человеческих душ: самого князя, раскаявшейся грешницы и еще одного больного из заведения Шнейдера, где лечился Мышкин. Князь собирался «потом» подробнее рассказать историю этого человека, но ее более полный вариант так и не вошел в роман. Однако читателю сообщается достаточно о его судьбе, чтобы можно было убедиться в целительной силе любви, и особенно детской любви: «Это было такое ужасное несчастие, что подобное вряд ли и может быть, – говорит Мышкин. – Он был отдан на излечение от помешательства; по-моему, он был не помешанный, он только ужасно страдал, – вот и вся его болезнь была. И если бы вы знали, чем стали под конец для него наши дети…» (8, 58).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
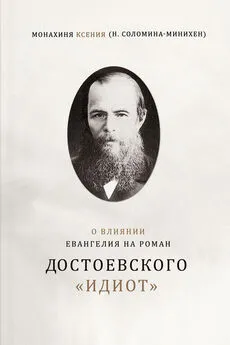
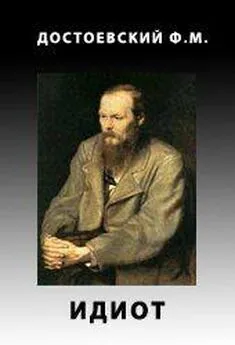


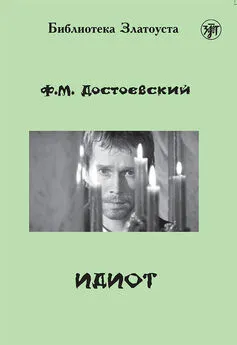
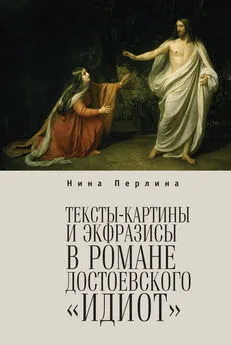
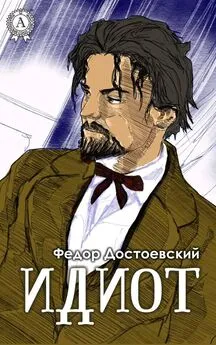
![Федор Достоевский - Идиот [litres]](/books/1095490/fedor-dostoevskij-idiot-litres.webp)