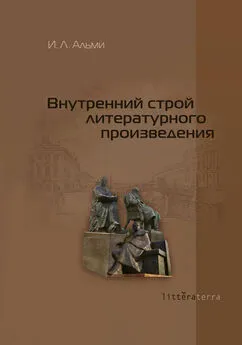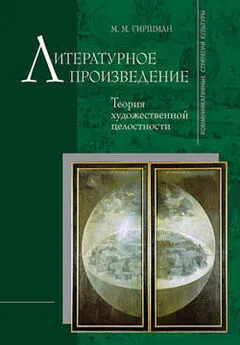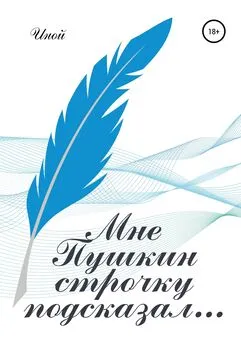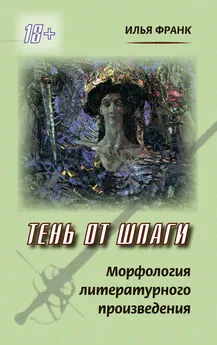Инна Альми - Внутренний строй литературного произведения
- Название:Внутренний строй литературного произведения
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array ИТД «СКИФИЯ»
- Год:2009
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-903463-18-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Инна Альми - Внутренний строй литературного произведения краткое содержание
Деление на разделы соответствует жанрам произведений. Легкий стиль изложения и глубина проникновения в смысловую ткань произведений позволяют рекомендовать эту книгу широкому кругу читателей: от интересующихся историей русской культуры и литературы до специалистов в этих областях.
Все статьи в широкой печати публикуются впервые.
Внутренний строй литературного произведения - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Исследователь лирики Пушкина Б. П. Городецкий замечает, что в «Зимнем вечере» обращение поэта к няне свободно «от какого бы то ни было привкуса барственности» [87] Городецкий Б. П. Лирика Пушкина. М., Л., 1962. С. 430.
. Не спорю. Но попытаюсь уточнить сказанное. Человеческое равенство тех двоих, что притаились в лачужке, по-особому незыблемо, так как обретается не на идеологических путях. Поэт и его спутница близки, если можно так выразиться, биологически. Это люди как таковые – перед лицом внечеловеческой угрозы.
Статус простого человека, – а именно по этому уровню происходит «уравнивание» героев – лирический субъект открывает в себе в этих условиях с завидной легкостью. Ценой несложной аберрации (ее смысл я показывала при анализе первых строф стихотворения) совершается превращение «сочинителя» и столбового дворянина в рядового обитателя деревни. Не барина – представителя исключительной сословной труппы, а человека российского большинства (без обозначения социальной принадлежности), одного из тех, кто по незначительности своей не владеет чем-либо, позволяющим заслониться от стихийного неистовства.
Единственный шанс спастись для тех, кто в лачужке осажден бурей, – в остро переживаемом ощущении дарованной им совместности [88] Под воздействием того же чувства происходит внезапное единение героев в поздней повести Л. Н. Толстого «Хозяин и работник».
. Именно поэтому лирический субъект стремится вывести спутницу из состояния дремотной неподвижности, развязать праздник и неразлучную с ним песню.
Оба эти момента в стихотворении (праздник и песня) поданы в отчетливо простонародном тоне, но в эмоциональном своем наполнении очень различны.
Пирушка прикована к бедному быту. Ее представляет единственный предмет, наименованный в качестве пиршественной утвари, – «кружка». Слово простейшее, но его употребление в «Зимнем вечере» не лишено оттенка странности. Невольно спрашиваешь себя (опять же при условии сугубо внимательного чтения): почему речь идет об одной кружке, если пить собираются двое?
С ответом помогает обращение к «Словарю» Даля. В нем зафиксированы два варианта значения слова. Одно – привычное для сегодняшнего слуха: имеется в виду «питейный сосуд, больше стакана». Второе, ныне полузабытое – «штоф» [89] Даль В. Указ. соч. С. 205.
.
Думается, у Пушкина сознательно оставлена возможность двойного чтения.
Второе значение слова (кружка как штоф) наиболее точно отвечает характеру художественной ситуации. При нем не просто снимается смысловая неясность – вопрос, почему одна кружка. Подразумеваемое слово – «штоф» в своей образной окраске будто пригвождает бедный пир к описанию лачужки. В первом значении слово «кружка» лексически немногим выше, чем во втором. Но оно сохраняет возможность сопоставления незатейливой пирушки [90] См. в послании «К Пущину (4 мая)» 1815 г.: Устрой гостям пирушку; На столик вощаной Поставь пивную кружку И кубок пуншевой (I, 119).
с теми молодыми праздниками, когда стаканы наполняла «звездящаяся влага» (Баратынский) искрометного вина (словно в память о них Пущин купил по дороге к другу три бутылки «Клико»).
Так, слово «кружка», в первом его значении, привносит в «Зимний вечер» оттенок ностальгической грусти; одновременно с ним возникает и та игра смысловых обертонов, которой в целом богата лирика.
Но, как ни представлять эту упомянутую поэтом «кружку» [91] В. А. Кошелев предлагает видеть здесь реминисценцию стихотворения Державина «Кружка» (Кошелев В. А. Указ. соч. С. 133).
, мотив «пира» в стихотворении открывает дорогу песне. Песня же – при всей свойственной ей простонародности – явно поднимает происходящее над уровнем скудного быта. Горизонт, затянутый мглой, замещается широтой сказочного моря, вой бури – тишиной, ночная тьма – яркостью зимнего утра. Песня затем и призывается поэтом, что обещает сердечное облегчение.
Особая функция «анакреонтики» в «Зимнем вечере» уже была отмечена литературоведами. «Традиционные атрибуты веселья, – пишет о ней Е. М. Таборисская, – выступают в стихотворении в несколько необычной роли. Тут они не спутники веселья, многократно апробированные поэзией знаки полноты бытия, а средства достижения этого желанного состояния; недаром и песня, и вино появляются в стихотворении вместе с глаголами будущего времени и повелительного наклонения» [92] Таборисская Е. М. Антологическая лирика Пушкина 1826–1836 гг. // Пушкин: Исследования и материалы. СПб, 1995. С. 79.
.
Приближение песни в стихотворном тексте проявляется еще до прямого ее упоминания. Это внутренняя мелодичность обращения к няне. Именно она – ласковая певучесть лирического потока, устремленного к приумолкшей старушке, заставляет отнестись с сомнением к той, почти катастрофической, трактовке этого момента, которая предлагается в уже упомянутой нами и в целом интересной работе М. Новиковой. «И няня-то, – сказано здесь, – сидит уже на границе чужого мира: "у окна". Старушка уже "приумолкла", не откликается на призыв о помощи (дважды двойное "выпьем" – как неотступный зов). Нет, не элегически констатирует – судорожно всматривается, горестно вскрикивает герой: "Что же ты… приумолкла?", "или…утомлена?…", "или дремлешь?…"» [93] Новикова М. Указ. соч. С. 145.
В пушкинском тексте, однако, совсем иной синтаксис, а следовательно, в принципе иная поэтическая интонация. Нет многоточий, дробящих (по воле исследователя!) стихотворную фразу. Повторы и аллитерации делают речь напевной («Или бури завываньем ты, мой друг, утомлена?… / Или дремлешь – под жужжаньем…»).
В унисон заявленной песне (а уже наименование дает по законам поэзии эффект потенциального ее присутствия) сама структура произведения обретает черты фольклорности. «Зимний вечер» завершается подобием песенного кольца.
Рассмотрим его подробнее. В. М. Жирмунский, говоря об особенностях «большого кольца» в стихотворении, отмечает, что оно «является внешним признаком некоторого кольцевого движения, возвращения в конце стихотворения к той же теме, от которой движение начинается» [94] Жирмунский В. М. Композиция лирического стихотворения. Пг. г 1921. С. 65.
.
Именно этот смысл имеет повторение первой строфы в финале «Зимнего вечера». Но объем повтора на этом не ограничивается. К первой строфе примыкает и срединная – пятая, содержащая прямое «призывание» праздника. Так, в завершении стихотворения четко обособляются два полярных его мотива; их коренное противостояние становится очевидным, – финал вещи отличает то качество, которое я назвала бы эффектом нескончаемости.
И тема неистовства стихии, и мотив внутреннего сопротивления ему обретают вследствие закрепляющего их повтора особого рода статику – знак неограниченной продленности. Такое завершение вещи делает некорректным вопрос о том, какое из противоборствующих начал окажется побеждающим. Художественный смысл произведения, по точному выражению Ю. Н. Чумакова, «оказывается, недоступным для однозначного определения». [95] Чумаков Ю. М. Указ. соч. С. 131.
Интервал:
Закладка: