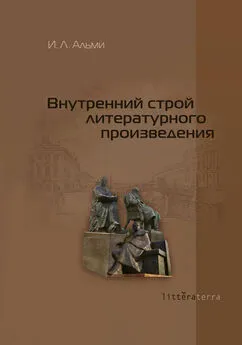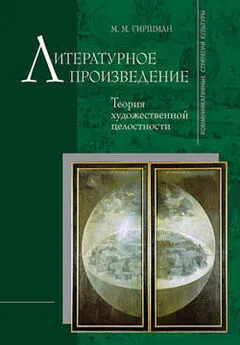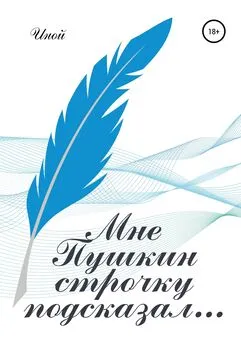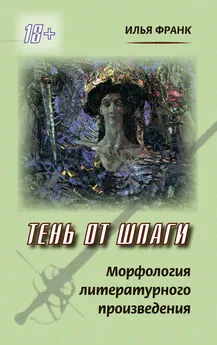Инна Альми - Внутренний строй литературного произведения
- Название:Внутренний строй литературного произведения
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array ИТД «СКИФИЯ»
- Год:2009
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-903463-18-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Инна Альми - Внутренний строй литературного произведения краткое содержание
Деление на разделы соответствует жанрам произведений. Легкий стиль изложения и глубина проникновения в смысловую ткань произведений позволяют рекомендовать эту книгу широкому кругу читателей: от интересующихся историей русской культуры и литературы до специалистов в этих областях.
Все статьи в широкой печати публикуются впервые.
Внутренний строй литературного произведения - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Неоднозначно и общее значение «Зимнего вечера» в движении исторических эпох. В 20-30-е годы XIX в. активизировался один из его аспектов, в общественных бурях XX в. – другой.
Первый имел по преимуществу эстетическое наполнение. Произведение было создано в момент сильнейшего пушкинского тяготения к новой системе ценностей художественных и жизненных. В процессе работы над «Борисом Годуновым» поэт называл ее «истинным романтизмом». В сегодняшних наших понятиях это реализм того типа, который будет существовать в русской культуре до рубежа «натуральной школы».
Связующее звено старой и новой системы, романтизма и направления, выходящего из его лона, но в главном его отрицающего, – тенденция, имевшая целую вереницу обозначений, а именно – местный колорит, простонародность (в частности, как опора на фольклор), наконец, народность в полном смысле этого слова.
«Зимний вечер» может быть соотнесен с этапом простонародности, но на этом фоне его выделяют существенные отличия.
Произведения, ориентированные на фольклорные модели, как правило, несут в себе неизбежную отстраненность от авторского «я», своего рода локальность. «Зимний вечер», обнажая пласт простонародности в душе самого поэта, превращает его в нечто, поистине всеобъемлюще.
Одновременно меняется и эмоциональное наполнение сюжетов, выдержанных в духе местного колорита. Теперь оно направлено не на концентрацию экзотики, призванной поразить воображение читателя (даже если перед нами достаточно точное описание нравов черкесов в «Кавказском пленнике»). Главным становится выявление того склада чувств, который понимается как общий «покрой» души, как тип житейских ситуаций. Народность в совокупности с реализмом начинает осознаваться как сугубая обыкновенность картин и лиц. Интерес читателя переадресуется; он направлен теперь на узнавание в литературе чувств и событий, знакомых по собственному жизненному опыту.
Для Пушкина эта переадресовка имела не только общеэстетический, но и личностный смысл. В зрелые годы поэт превыше всего будет ценить свойственное человеку как таковому собственно человеческое начало. Пушкинское изображение акцентирует его в характере каждого из серьезных героев – в потомке старинного рода («Медный всадник», «Моя родословная»), в «старой няне» или в молодом дворянине, внезапно вынесенном на авансцену истории («Капитанская дочка»).
Именно на этом величайшем уважении к человеческой «обыкновенности» держится органика пушкинского гуманизма. Здесь же, как мне кажется, истоки того особого смысла, который обретает «Зимний вечер» в нашей общей жизни с середины XX в.
На потенции этого переосмысления проницательно указывает В. А. Грехнев. Справедливо считая, что в стихотворении «нет ничего аллегорического», исследователь тем не менее обращает внимание на свойственную ему особость: поэтическая идея здесь «как бы перерастает себя, порождая резонанс, намекающий на общее состояние мира» [96] Грехнев В. Мир пушкинской лирики. Нижний Новгород, 1994. С. 7.
.
Думается, это разрастание смысла – применительно к судьбе самого Пушкина – отчетливо высказалось в пьесе М. А. Булгакова «Последние дни».
Не могу сказать, что полностью принимаю ее художественную концепцию; в особенности трактовку действий власти как целенаправленного убийства поэта. Но, независимо от этой трактовки, звучание «Зимнего вечера» на страницах этого произведения Булгакова отличается пронзительной остротой, наталкивает на невеселые размышления «об общем состоянии мира».
Строки «Зимнего вечера» проходят через всю пьесу как лейтмотив – пред дверие грозящей катастрофы. Воплощает катастрофу финальная сцена. Стихотворение получает в ней как бы двойное бытие. Строки из него повторяет один из героев – жалкий сыщик Битков, следивший за поэтом в последние дни его жизни. Одновременно, будто реализуя пушкинское слово, метель сотрясает стены ветхой почтовой станции. Тело Пушкина везут в Святогорский монастырь. Сопровождающие зашли в помещение обогреться. Только старичок камердинер («моя старушка») не покидает мертвого. Буря неистовствует.
Образ этот, обладая естественной для художественной ткани символичностью, может быть истолкован у Булгакова по-разному. Прежде всего, в согласии с мыслями его героя – маленького человека. Пушкин, в представлении Биткова, – существо в высшей степени странное, может, «и оборотень»: «Помереть-то он помер, а вот видишь, ночью, буря, столпотворение, а мы по пятьдесят верст, по пятьдесят верст… Вот тебе и помер… Я и то опасаюсь: зароем мы его, а будет ли толк… Опять, может, спокойствия не настанет…» [97] Булгаков М. Пьесы. М. г 1987. С. 267–268.
.
В контексте мыслей такого рода буря – что-то вроде наваждения, насланного ушедшим. Или – бунта стихии, возмущенной гибелью гения.
Возможна, однако, и трактовка противоположения, проистекающая не столько из слов героя, сколько из общего смысла созданной драматургом картины.
Метельное неистовство за окном почтовой станции – торжество той угрозы, которая висела над поэтом всю его жизнь. Теперь она наконец-то берет свое. Снежная Россия – неласковая мать – готовится поглотить того, кто мог бы еще долгие годы оставаться живой ее славой.
Но кто же он все-таки был? Нет, не «оборотень». Слово это сказано героем сгоряча, повторено за глупой смотрительшей. Умерший был, по мысли Биткова, «человек как человек». «Да, стихи сочинял… А из-за тех стихов никому покоя…» [98] Там же. С. 287.
.
Но измучившийся в преследовании поэта несчастный сыщик «на него зла не питал». И не видел – в отличие от другого булгаковского героя— в пушкинской судьбе беззаконной «удачливости». Маленький человек понимает простейшее: «Но не было фортуны ему. Как ни напишет, мимо попал, не туда, не то, не такие…». [99] Там же.
К кому в наибольшей степени относятся эти слова? К Пушкину? Или к самому Булгакову, предчувствующему, что и пьесой о Пушкине он снова попадет «не туда». (Как известно, «Последние дни» при жизни писателя поставлены не были.)
Бесспорно одно: ушедший, от которого никому не было покоя, по словам того же Биткова, «самые лучшие стихи написал: "Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя. То, как зверь она завоет, то заплачет, как дитя". "То по кровле обветшалой вдруг соломой зашумит… То, как путник запоздалый, к нам в окошко…"» [100] Там же. С. 288.
На этой оборванной строке прекращается жизнь «Зимнего вечера» в булгаковской пьесе. В пьесе, но не в нашем сознании…
2006
Евгении Баратынский: Характер личностной и творческой эволюции
Дарование есть поручение.
Должно выполнить его, несмотря ни на какие препятствия…
Интервал:
Закладка: