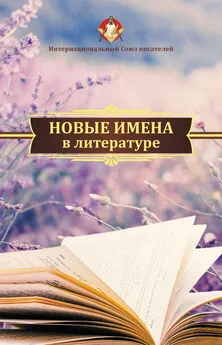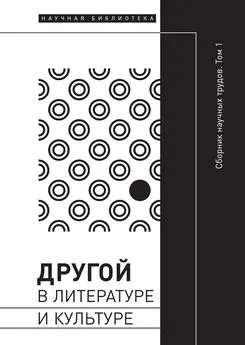Array Коллектив авторов - Как мы пишем. Писатели о литературе, о времени, о себе
- Название:Как мы пишем. Писатели о литературе, о времени, о себе
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Аттикус
- Год:2018
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-389-14618-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Array Коллектив авторов - Как мы пишем. Писатели о литературе, о времени, о себе краткое содержание
Как мы пишем. Писатели о литературе, о времени, о себе - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Как я себя чувствовал, когда узнавал, а узнавал об этом я всегда внезапно, как подкарауленный, об очередном случае воплощения в жизни одного из моих вымыслов с нерадостным исходом? Да так, примерно, – подобие, конечно, слабое, – как будто получил ты неожиданно удар под дыхло , или как тогда, когда после шальной ночной попойки просыпаешься ты назавтра и начинаешь, рефлектируя, одно за другим, будто из норы лисят позвягивающих, вытягивать из затуманенной похмельем памяти то, что ты выделывал вчера – ходил, перед самим собой кобенясь или выпендриваясь перед девочкой, по карнизу, спускался по водосточной трубе с крыши шестиэтажного дома, прыгал с моста в Неву и многое другое, равное по безобразию, припоминаешь, ёжась от стыда, эти подвиги и, с леденящим душу ужасом, зарекаешься такого впредь не вытворять, зарекаешься и благодаришь Бога за то, что сохранил тебя, недостойного, помиловал, червя худоумого, – так, приблизительно, или: как будто заприметил мельком уголками глаз сакраментально недозволенное, – и так, возможно. Ладно хоть то, теперь вот думаю, что старимся мы со днями: умеряет в нас старость задор жеребячий, обращая сердце на иное, ещё при этом из ума совсем не выжить бы.
После того рассказа злоименного я больше года не писал – не накрапал тогда ни предложения – не то что от буквы, но и от знака препинания с души воротило какое-то время, – не считая редких, коротеньких писем родителям, в которых сообщал им, что жив покуда и здоров, о том же и у них справлялся и желал им того же, а также той блудокаракульщины, которой приходилось заниматься мне в ту пору на работе в одном из исторических музеев.
Провоцировал ли я эти неладные события, изображая их прежде литературно, предвидел ли их каким-то – непостижимым в нормальном, не взбудораженном словесным вихрем на бумаге, состоянии – образом, когда от длительной бессонницы, злоупотребления крепким чаем, мысли приобретают силу оракула, или же было это тем, что священник Павел Флоренский называл галлюцинацией о будущем, так или иначе, в любом случае не нахожу себе успокоения, хотя страшнее, полагаю, всё же первое: ведь коли так оно, то явно тот, которого добрые люди именовать вслух отказываются, подначивает тебя и подспудно внушает тебе ход развития сюжета – а ты-то думаешь, гордец самонадеянный! – но и второе – тот бы и краше, да рот, как говорится, в каше – что тут страшнее, то или это, когда и то и другое, как заподозрить можно, от лукавого?
Ходил я, неведением отуманенный, и во Князь-Владимирский собор, бывал я там и раньше, конечно, когда душою омрачался, впадая в тяжкий грех уныния, а после и по этому конкретно поводу, стоял с вопросом пред иконой Божьей Матери и, покидая храм, зарок даже давал, что сочинительством не стану больше баловаться. Но – обещался кто-то там не лезть куда-то… – всё же пишу, и эти строки – в обличение. Однако с именами я теперь уже не так беспечно обращаюсь. И тем не менее: помилуй меня, Боже. Верую – Господи, помоги моему неверию; не две ли птицы продаются за ассарий, и хоть одна из сих упала на землю без воли Отца?.. и не гораздо ли мы лучше многих малых птиц?.. – и верю, что, хоть и несть пластыря приложити , не множу в мире зла, сознательно по крайней мере, своею скромной писаниной, и что рукой моей – рукой, по выражению блаженного Феодорита, колесницей слова , не тот – кромешный – управляет, чтобы себя развлечь в кромешной скуке, и что не виноват я в чьей-то смерти, даже и невольно, слаганьем букв… верю я и… всё же надеюсь, что не по чьему-то лихому произволу, а по щедрому замыслу Твоему, Господи, человеку назначено творчество, – ибо по образу же Своему, – и мне, убогому, такое выдалось вот, – а потому оно предполагает и какое ни на есть предвидение, – вот и моё, немощное и периферийное, – не бесовское же, тешу себя надеждой, наваждение, – умолк иначе бы, писать бы перестал.
И вспомнилось ещё мне выражение латинское: Fortis imaginatio generat casum – сильное воображение порождает событие.
Бывает так.
Так есть. Моё свидетельство тут.
И вместо послесловия
Не уехал бы я с малой родины, не получился бы из меня homo scriptor. Нужды бы в этом у меня не появилось. Уверен. Так как не тосковал бы ни по дому, ни по малой родине. И не пытался бы там побывать хотя бы образом таким – через письмо. Зачем писать о них, когда всё рядом? И не пишу, когда живу в Ялани. Как чистый лист. Дел и без этого хватает – наполняюсь.
Может, конечно, и затосковал бы, но только не по дому своему земному, а по иному чему-то, даже, возможно, и по Дому, но с большой буквы, высшему Отечеству. Мы же тоскуем по Нему.
Никогда стать романистом не хотел, и в мыслях не было. Только вот археологом. И с малых лет.
Я и теперь не осмеливаюсь назвать себя писателем. В поезде, с незнакомыми людьми, на вопрос, чем я занимаюсь, отвечаю: археология, рыбалка. При этом возникает у меня лёгкое чувство стыда. Что оно, чувство это, означает? Как объяснить его? Не своим делом занимаюсь? Не тем, чем должен и к чему был предназначен Божьим Промышлением?
Может, поэтому и нет у меня писательских амбиций? И не горжусь своим трудом. Будто не мой он. Странно.
Не отверг ли я более интересные и полезные возможности?
Мог бы стать пожарным, например, разведчиком, контрразведчиком ли. Или спецназовцем. Скорей всего, остался бы в профессии. Археологии. Но ведь и там пришлось бы мне литературой заниматься. Научной. Отчёты. Монографии. Статьи.
И если в художественной литературе я каким-то странным образом, неосознанно предугадываю будущее (надеюсь, что не провоцирую), то в литературе научной вынужден был бы осознанно предугадывать прошлое.
Ну, что-то вроде.
И последнее.
Раньше мне иногда казалось, что некоторые куски моего текста написаны не мной, а кем-то другим. Но кем?
Работал я в то время по ночам, днём пытался отоспаться. Не всегда мне это удавалось. Чаем поддерживал себя.
Перечитывал после написанное мной предыдущей ночью и диву давался: будто некоторые абзацы вписал в мой текст кто-то другой, я, точно, видел их впервые.
Я не писал на пьяный ум. Неверно. Писал, конечно, и когда писал, восторгался бурно сотворённым – ай да сукин сын! как-то похоже, – но, протрезвев, выбрасывал «шедевр» – полнейший бред, чудовищную чушь. А надо было сохранить? Может, и надо. После посмеяться.
Был я в то время, когда набивал свой текст, на месте, за машинкой? Не знаю. Да вроде был.
Замещал ли меня на какое-то время кто-то? Не знаю. Ни с кем вроде не договаривался.
Ночью стал спать, а днём работать, эта иллюзия исчезла.
Вот.
Андрей Аствацатуров. Литература в эпоху постискусства
О времени
Нашу традиционную эстетическую судьбу в эпоху постискусства сложно назвать завидной. Владимир Вейдле, филолог консервативного склада, справедливо писал, что искусство угасает, когда оно дает голос человеку. Нечто подобное современной ситуации, предоставившей голос не художнику, а человеку, уже происходило в европейской культуре. Причем дважды: на рубеже XVIII и XIX веков, в эпоху романтизма, и спустя сто лет, в ХХ веке, когда появился авангард. В эти исторические моменты воображение покидало сферу искусства и вторгалось в область чисто человеческого. Воображение по-прежнему открывало возможности жизни, но не затем, чтобы создать эстетические миры, а с целью усовершенствовать человека. Романтиков, а позднее сюрреалистов не слишком заботило искусство. Оно, как правило, объявлялось не целью, а средством, способом приближения к миру и основанию человеческого «я».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: