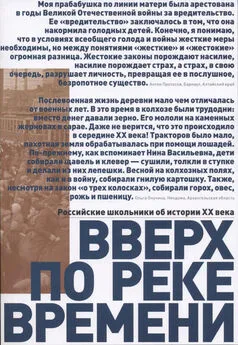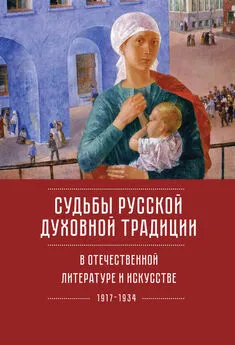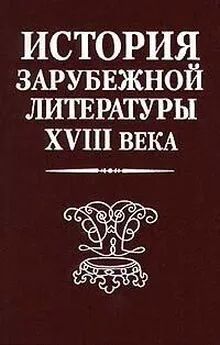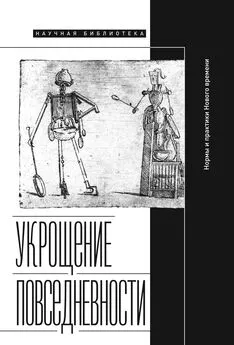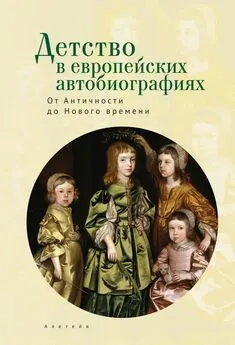Array Коллектив авторов - Как мы пишем. Писатели о литературе, о времени, о себе
- Название:Как мы пишем. Писатели о литературе, о времени, о себе
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Аттикус
- Год:2018
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-389-14618-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Array Коллектив авторов - Как мы пишем. Писатели о литературе, о времени, о себе краткое содержание
Как мы пишем. Писатели о литературе, о времени, о себе - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Склоняясь к полу, где тот ещё не пылал (дым внизу чуть реже), обошёл всё заново, кругом всю четвертину, и на русской печи палкой – попалась под руку какая-то – теперь проверил, и в самой печи, и под шестком, мало ли, и на полатях – не забрался ли на них Аркашка спьяну, – провёл палкой и под столом на кухне, до стен протыкал ею пустоту, а вот под кроватью поискать, уж как на притчу прямо, и не догадался, ногой, правда, под нею, помню, пошарил, да неглубоко, насколько дотянулся, – даже и в мыслях у меня тогда не промелькнуло, что мог он, бедолага, туда закатиться, если ползти, казалось мне, то было бы к двери уж… Из дому выскочил.
Стою.
Народ начал подтягиваться – по одному подходят и ватагою. Разговоры – то ленивее, то бойче. И – где он, Аркашка, – никто толком не знает, гадают только, но гадать – не ведать. Кто-то его как будто и встречал, да не сегодня вроде, вспоминают, а дня за два, за три ли до этого. Год назад и я его встречал, мол, кто-то так шутит. Смотрю, и Плетиков Василий Серафимович – тот уже тут – к нему все сразу: должен, мол, знать – нет, говорит, работника, мол, до отвалу накормил – смеются все: конечно, дескать, до отвалу, – в шесть или в семь часов вечера его выпроводил, а куда он после этого направился, понятия, мол, не имею. И лишь Чапаиха, бичиха, едва владеющая языком, – не в кою пору было протрезвиться ей, – мат-перематом всех заверила, что у себя, дескать, Аркашка, и быть ему, сволочи, мол, больше негде, что до полуночи он, глист засохший, у неё водчонкой угощался, а как допили всё, лично сама она его, под локоточек, мол, до крылечка довела, а то, что в дом вошёл он, недоделанный бульбаш, так крест вот вам и сукой, дескать, буду.
Прежде в снегу хорошенько вывалявшись, чтобы не вспыхнула на мне одежда, проник опять я в избу, скоренько по возможности все закутки проверил вновь, а под кровать, поглубже в угол, и на этот раз не сунулся, как будто что-то не пускало, но – как и тот паренёк, герой из моего романа, двигаясь на ощупь в точно таком же, только придуманном мной будто, положении, – так же, как он, ладонь ожёг об её дужку.
Дотла сгорел дом, некогда самый, пожалуй, приглядный в Ялани, с расчудесно изукрашенными мастерской резьбой не только наличниками, но и причелинами и очельем, один из самых казистых, наверное, в селе, сгорел дом до подполья, и тушить было бесполезно – высох за век под хорошим карнизом – часа за три в золу обратился. А чёрное, как спелое арбузное семечко, тело Аркашкино (головню ли – то, что осталось от бывшего интеллигентного человека или, скорее, использованного частично , как расшифровывали у нас слово «бич») отыскали приехавшие утром пожарные с милиционером под уже голой, окалённой панцирной сеткой железной кровати; чуркой обугленной лежал полутруп (в смысле формы, а не химии и биологии) на превратившемся в наст – от огня сначала, а потом от мороза – снегу напротив дымящего и парящего ещё пепелища, пока его, завёрнутого в мешковину и упакованного в картонный ящик из-под телевизора «Горизонт», не увезли в Елисейск на судебно-медицинскую экспертизу, прихватив заодно и Чапаиху, пытавшуюся пометить этот ящик, как собака, ту – в вытрезвитель.
Дня через три Чапаиха вернулась – поплясала, задирая юбку и демонстрируя свои куриные, синие от жизненного опыта и от холода, не прикрытые ничем ноги, возле магазина, гнилым, слюнявым ртом поругалась срамно на прохожих и, обессилев, убралась к себе в избёнку – к Чапаю, сожителю, тоже бичу, каких и свет, поди, не видывал.
Из романа:
«Аркашкин труп положили в картонный ящик из-под телевизора „Горизонт“ и увезли в Елисейск на экспертизу».
Совпало и это.
В тот же день, под вечер, и Аркашку хоронили – в Сретенье Господне, когда-то праздник престольный яланский, – переложив его, покойного, из картонного ящика из-под телевизора «Горизонт» в дощатый – из-под мыла «Душистое», – подобрав тот в магазине по размеру; и этикетку не содрали. Потеплело. С запада тучи завесой на Ялань надвинулись, просыпая снег пушной, лёгкий, – в помин по Аркашке будто. А в сорочины: за то, что голову Чапаю топором она развалит пополам, как яблоко, отконвоируют её, Чапаиху, в город и не вернут уже обратно. Так вот село наше лишилось разом и Чапая, и Чапаихи; а десять лет они яланцев забавляли: и нагишом по улице – то в обнимку, то раздельно – хаживали, и во всё горло песни дурногласили, и боем смертным бились, на потеху всем, друг с дружкой, и чего только, помимо этого, ещё не вытворяли, не выделывали, люди старые, – за грех и вспомнить! Чапай он (был уже) – потому что по имени и отчеству Василий Иванович, ну а Чапаиха – понятно.
Из романа:
«Что же за праздник-то сегодня? Поют в Ялани… или уж чудится?.. да нет… Дней двадцать… Или плачут?.. Или кажется… да нет, не кажется… Седьмое… Вышел Олег в Ялань, поравнялся с бывшей церковью и увидел под нишей с поблекшей Анной Пророчицей снегом припорошенного, скорченного, как зародыш, Карабана. Разорвали собаки штаны на нём и выгрызли у трупа мякоть. Долго стоял Олег, долго не мог оторвать глаз, мёртвого сопоставляя с живым… по образу, что в памяти остался… не сопоставить…»
Года через два, наверное, после того как это было написано, приехал я на родину. Рядом с родительским стоит старый пятистенник, в котором в последнее время жил бич Малафей. Тут, смотрю, окна заколоченные. Спрашиваю у мамы, где хозяин? Мама говорит: «Умер наш Малафей, мы тебе разве не писали? Зимой ещё. Похоронили. И Карабана тоже уже нет. Как Малафея похоронили, выпили хорошо они на кладбище, шёл Карабан оттуда домой, прилёг или упал, в снегу около церкви, замёрз до смерти, собаки стёгны у него погрызли».
Я – так мне казалось – придумывал, писал о чём-то, что через какой-то промежуток времени всегда по-разному, но откликалось в жизни.
Самое горькое – про отца.
В 1990 году в издательстве «Советский писатель» вышла моя книга. «День первого снегопада». Название не моё. Моё было – «День Покрова». В издательстве сказали, что «покров – это когда бык тёлку кроет», вынудили меня поменять название, категорически. Поменял. В первом романе «Зазимок» герой Олег, получив сообщение о смерти отца, едет на похороны.
В романе:
«Тихий лес. Здесь и ветра нет, и носа он сюда не кажет, только дружок его вертится – сквознячок кладбищенский, лист потрепать – у него и силёнок-то, а на другое что не хватит. Упали с черёмухи отцу на лицо две капли, на веки прямо, и не разбились, стекли по вискам, как бусины хрустальные. Взглянул на них Олег – и не удивился; и других чувств, кажется, никаких – будто плыл долго, на берег выбрался и впал в беспамятство. Только тот мальчик, маленький, босой, который так и не высказал тогда – ни тогда, ни позже за всю свою жизнь – слова такого: папочка! – взметнулся, забился, как в падучей, пришёл в себя, попробовал вырваться, но в горле застрял и задохся, задохся и скорчился. Подкосились ноги – так, будто сзади кто подкрался, полоснул ножом и перерезал сухожилия. Упал коленями в глину. Ткнулся щекой в щетину белую. Сказал:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: