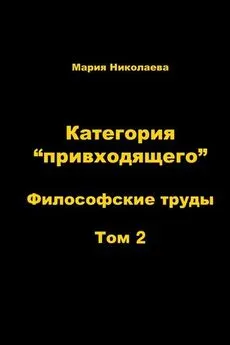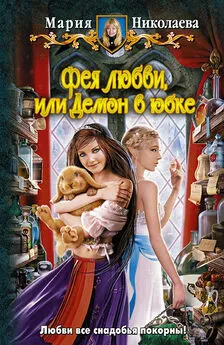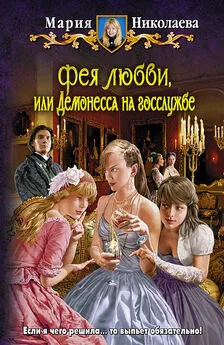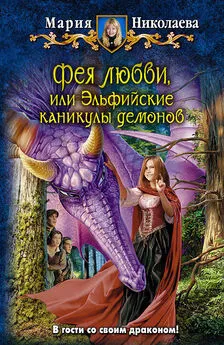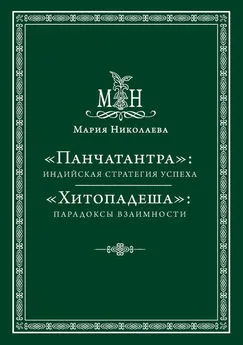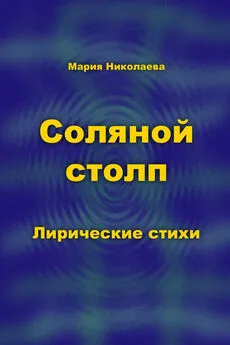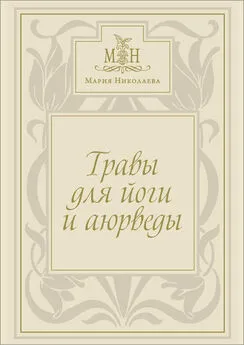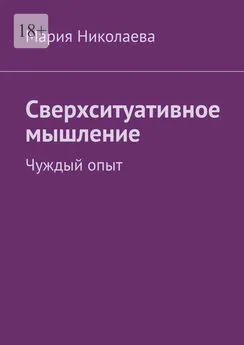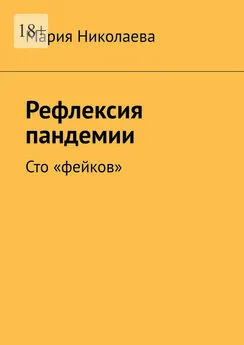Мария Николаева - Категория «привходящего». Том 2
- Название:Категория «привходящего». Том 2
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Мария Николаева - Категория «привходящего». Том 2 краткое содержание
Категория «привходящего». Том 2 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
«Наша» воля неделима на форму воления вообще и содержание или цель конкретного акта воли. Она рефлективна в «нашем» разуме и есть воля к тому, чтобы быть всецело «нашей» волей. Общность человечества ограничивается различимым бытием в мире, а его соборность обладает свершенностью в Господе. Между церковью и личностью стоит народ. Всенародное предание воле Божьей – о покаянии государственном говорить не приходится, как и о его противоположности, подневольности мессианства, – составляющее «нашу» волю всякого народа-богоносца, возникает очагами юродства в смысле инаковости «Мы» среди «мы». Иночество предполагает келейность, но пустота кельи воплощает освобожденность мира от мирского, будучи моделью сосредоточенности предметности пространства в теле человека, вплоть до его обнаженности. Юродивый по существу затворник, мыслимый Богом ради возлюбленных Им людей. «Что касается до служения юродивых делу спасения ближних, то на это посвящена была вся их жизнь… Своею жизнью напоминали они всем о том едином, что есть на потребу… Сам Бог избирал этих дивных подвижников непосредственным орудием Своей божественной воли». [10] Монахи – вериги на растущем теле человечества, в отношении него поддерживающие волю к отказу от небытия без Бога, и поскольку они есть вне себя, соборность продолжает становиться в подвиге.
В практике монашеского общежития наставник понимается как посредник между Богом и людьми, проводник Его воли. Казалось бы, он воплощает собой ту среднюю волю в человеке, по которой происходит отказ от своеволия ради воли Божьей. Но «Мы», ориентированное на соборность, не тождественно «я» по структуре, хотя бы каждое «я» и имело подобную направленность. Кроме устава, «другой способ вязания воли всех был всестороннее подначальство», [11] – при котором все были связаны узами послушания: когда брат шел по делу, с ним посылали другого в качестве набольшого. Никто ни минуты не оставался без руководства, своей воли не имел и следовать ей не мог. Предполагалось, что самоотречение происходит однажды – при вступлении в монастырь. Наставничество в общежитии отличалось от становления новоначальным послушником длительностью и обратимостью, поскольку не принимающий одобренного настоятелем должен был возразить: «Повиноваться подобает Богови паче, нежели человеком». Но окончательное непослушание выдавало несогласие с самим собою. «Ибо если не соглашается подчиниться, а следует собственной своей воле, то для чего и живет с ним?» [12] Явное отличие структуры «нашей» воли выступает при определении полного пространства послушания: «не только по совету настоятеля удерживаться от несообразного, но без его воли не делать даже и самого похвального».
В последнем требовании подчеркивается формообразующий характер отсечения своеволия для структурирования «нашей» воли. Важно не содержание веления, а его положение в общей иерархии. Вот почему первой заботой старца было приучить послушника побеждать хотения вообще: «он нарочно заставляет его всегда делать то, что противно его душе». [13] Наиболее похвальным и показательным считалось смиренное исполнение самых абсурдных заданий, например, ежедневно поливать сухую ветвь три года просто потому, что так старец велел. Практическое абстрагирование волевой способности имело целью «держать единение с братьями и хранить постоянный с ними мир, чтобы в общежитии пребыть навсегда». Любовь есть стремление к единству в безусловном блаженстве, или благодать в действии, а ее собственный признак – взаимность, в перспективе абсолютная, или по воле Бога. Оптимальное стремление к всеединству будет любовью к Самому Господу. Несовершенство в любви выдает явное несоответствие деяний воле Божьей. Безответная любовь вносит разлад в осуществление «нашей» воли, сохранившейся в функции свидетеля, оказавшегося рядом с несогласными. Лишь для него стоит дилемма соотнесения с волей Божьей, тогда как для втянутых в событие лиц существует некоторая определенность, создавшая хотя и убогое, но все-таки равновесие взаимодействия.
В подобном положении оказалась русская философия,соотносящаяся не столько с восточной и западной церквями, сколько с Востоком и Западом в целом, несмотря на православие государства и народа. Прослеживая пути русского богословия Флоровский часто отмечает веру вообще, безразличную к вероисповеданию. «История есть для Чаадаева созидание во мире Царства Божия, но «мы принадлежим к числу наций, которые как бы не входят в состав человечества»… Славянофильство задумано как философия всеобщей христианской судьбы, но весь пафос в том, чтобы выйти из истории… Первая схема Киреевского построена без учета реальности Церкви… Гоголь вначале не замечал никакой разности между исповеданиями: «Религия наша, как и католическая, совершенно одно и то же»… В изображении Хомякова самодостаточность Церкви показана с такой очевидностью, что историческая действенность ее остается в тени… Достоевский мечтал о русском социализме, но видел русского инока. И последнего синтеза он не дал… У притязаемого византийца Леонтьева была совсем протестантская тематика спасения… К историческому христианству Соловьев относился скорее отрицательно и всяким катихизисам противопоставлял истинное христианство будущего, которое еще нужно раскрыть… Словесно Федоров как будто в православии. Но это только условный исторический язык». [14]
Свидетельствовал о широкости русской веры и Лосский. «Учение отца Сергия Булгакова, так же как и учение Оригена, обнаруживает возможность опасных уклонов восточного мышления, или, вернее, соблазны, свойственные русской религиозной мысли. Но православное предание столь же далеко от этой восточной крайности, как и от ее западной антитезы». Однако апофатичность самого вероисповедания сказывается на его неприм и римости с другими и неприм е римости к другим. Диалог в христианствеслишком медленно переходит во внутренний монолог, образующий рефлектирующую намеченность «нашей» церкви, а не просто исходно одной церкви. Мы вовсе не высказываемся за «недалекость» предания, но вынуждены изыскивать шанс отстраниться от той свидетельской позиции, которую удобно занимать в России по отношению к самому отношению Востока и Запада. Ведь апофатичность веры может соскользнуть в изначальную неопределенность церковной жизни даже с подачи священника Павла Флоренского. «Для католицизма всякое самостоятельное проявление жизни неканонично, для протестантизма же – оно ненаучно. И там и тут жизнь усекается понятием… Неопределимость православной церковности есть лучшее доказательство ее жизненности. Нет понятия церковности, но есть сама она». [15] Остается задуматься над выбором между бессознательным и сверхсознательным общежитием в Боге.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: