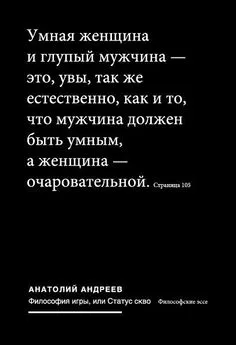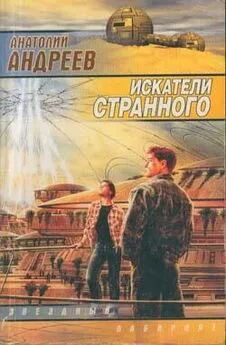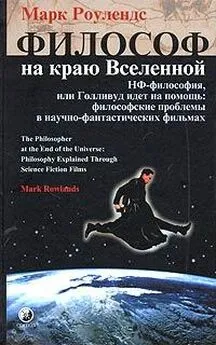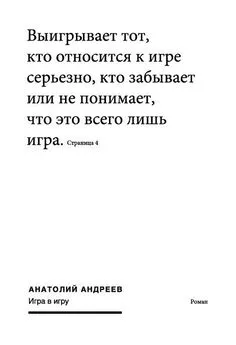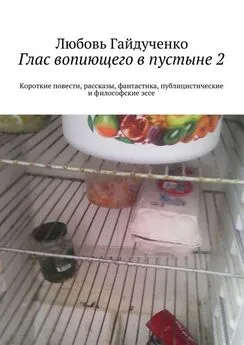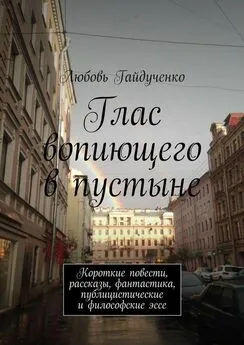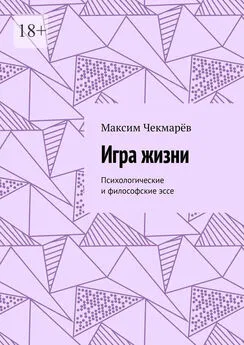Анатолий Андреев - Философия игры, или Статус скво: Философские эссе
- Название:Философия игры, или Статус скво: Философские эссе
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2012
- Город:Минск
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Анатолий Андреев - Философия игры, или Статус скво: Философские эссе краткое содержание
Философия игры, или Статус скво: Философские эссе - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
А никакой, естественно. (Тут нужна не смелость мысли, а смелость «голого короля», уверенного, что «сдвиг» есть норма.) Никакой. «Творчество при таком понимании демистифицируется, любая жизнедеятельность, требующая усилий, становится ему равна.» Хочется воскликнуть: «Ой ли, Борис Михайлович? Любая ли? Равна ли?»
Но мы сохраним, как нам и предписано, мину серьёзно-репрессивную, не будем выбиваться из стиля, не станем скоморошничать, а спросим ответственно: а как Вы измеряете тщету духовных усилий золотаря, золотопромышленника и златоуста? Вы что же, всерьёз полагаете, что деньги, этот всеобщий эквивалент, не пахнут? «Жизнь выше морали» и «жизнь, имеющая моральное измерение, которое не подавляет жизнь, сообщая ей, вопреки умозрительным опасениям, высшее витальное качество» (это уже моя позиция) – всё едино? Весь мир бардак, все люди, понимаешь, не люди, так что ли?
И Вы предлагаете закрыть проблему уже самим фактом наличия жизни? Вначале была жизнь, а слово было о жизни, и слово было глупым, потому как сублимированным. И всё?
Как говорят в таких случаях, не густо. А еще культурные люди выражаются так: мне кажется, коллега несколько неправ, утверждая, что Земля имеет форму чемодана. Мне тоже, признаться, кажется, что Борис Михайлович несколько того, хватил лишку.
В сущности, перед нами либо религиозное сознание в его авангардном варианте (так сказать, дань просвещенному времени), либо вульгарный материализм, который вполне может быть формой сознания религиозного. Парадокс-с.
Послушаем, однако, Парамонова дальше (цитаты, и предыдущие, и несколько последующих, взяты из программного эссе, давшего название всей книге): «Ценность человека определяется фактом его эмпирического существования, и демократия не считает себя вправе предъявлять ему дальнейшие – культурные – требования, вырабатывать в нём нормальное, нормативное «я». Фактичность и есть ценность, это данное, а не заданное, наличествующее, а не долженствующее быть». Звучит прогрессивно. А вот ещё: «Стиль бесчеловечен. Стиль идеологичен, как всякое мировоззрение, но демократия принципиально отвергает мировоззрение, идеологию, она занята исключительно решением текущих проблем, её метод – частичная социальная инженерия (Карл Поппер)». Что мне здесь нравится, так это честность. О масштабности личности Бориса Парамонова можно судить уже по масштабности заблуждений. Цель литературы «как формы сознания» – её конец («Ной и хамы»). Или вот ещё цитата («Ион, Иона, Ионыч (конец русской литературы)»): «Литература – русский коллективный невроз», и «патогенная его подоснова несомненна». После таких автопсихоаналитических пассажей, надо полагать, Парамонов – это никакая не литература, книга его не книга, да и поэт он не настолько, чтобы прописаться там, где «местопребывание поэзии». Обсудим и это.
А вот уже, судя по всему, осиновый кол в гроб литературы как культуры («Голая королева»): «Высота художественной культуры находится в прямо пропорциональной связи с угнетённостью и отсталостью масс» («Пушкин стоит псковского оброка»: преподносится как цинизм «барственного эстета» Герцена; на самом деле читай «не стоит». Стоит – или не стоит, или – или: вот по какой познавательной технологии изготавливался кол. Грубая работа.) «В высокой культуре страдают и народ и творец»; «современная культура» же «борется со страданиями, хочет избавить людей от страданий. И это избавление происходит за счёт духовных вершин: меньше страданий, но меньше и вершин». Читая такое, хочется воскликнуть: Парамонов себя под Лениным чистит – не в смысле стиля, нет, в смысле овладевания всем идейным богатством мировой культуры. Но зная, как Парамонов относится к Ленину и культуре, я удержусь от восклицания. Вот такой «демократический поворот» темы (глава из цитируемой работы называется «Демократия как эстетическая проблема»). «Эстетика демократии – (…) то, что называют «постмодернизм».
Отсюда следует («Красное и серое»): Коммерциализация искусства – громадный культурный сдвиг» (чем хуже для духа – тем лучше для человека, ибо, как выяснилось, человек и дух – не едины суть). Или: «Учитесь торговать – и вы спасётесь», т. е. искупите культурные грехи («Поэт как буржуа»). Продолжим «Красное и серое»: «нерепрессивная культура» видит свою задачу в том, чтобы превратить человека «не в гражданина, а в потребителя». «Высокий художник служил эксплуатации потому, что закреплял нормативность культуры в творчестве красоты. (Нет, всё же обширна тень Ильича! – А.А.) А жизнь некрасива, и в этом качестве имеет право на существование. Это и есть радикальнейшее из прав человека: право быть собой в своей эмпирической ограниченности, жить вне репрессий нормы». Вот она, «радикальная смена духовных вех» («Бессмертный Егорушка»). Ей-богу, Борис Парамонов с его тягой к отчётливости и недвусмысленности формулировок мог бы претендовать в культуре на большее, нежели на «интеллектуальный эпатаж».
В таком идейном контексте Парамонова интересует Гоголь как отец «заброшенного дитя России – Чичикова», «поэта-буржуа»; Чехов как «самый настоящий мелкий буржуа» и «провозвестник буржуазной культуры» (призывающий «дуть в рутину»); Зощенко, проза которого – «ступень в становлении русского демократического сознания», ибо он был «певцом человека труда», «потребителя», человека, взятого «в своей эмпирической ограниченности»; Леонов, вызывающий «невольное восхищение», любопытен тем, что «разочаровался он в художестве как высшей форме культурного бытия» и из «самого художества, из этого священного безумия, сделал форму доходной деятельности!» («Бессмертный Егорушка»). И Шкловский, и Стивен Спилберг, и Эренбург, и Чапек, и Цветаева интересны в непоэтической, допоэтической, некой первозданно-жизненной ипостаси, как вариации на тему «жизнь не только вне морали, но и вне культуры» («Солдатка»).
Вырисовывается цепочка, замыкающаяся в круг: постмодерн , где реализован «конец стиля», – демократия как проекция постмодерна (и даже – христианства, религии в широком смысле, см. «Пантеон: демократия как религиозная проблема»: «в нашем контексте демократия обретает если не религиозный смысл, то соотнесённость с религиозными содержаниями»), – потребитель как субъект демократии, – еврейство как идеальная – пластичная, счастливо избегающая определённости – человеческая субстанция, без зазора стыкующаяся с демократией, плюрализмом, потребительством и постмодерном, – культура , где «приватизация бытия» разрывает цепи репрессивных норм и оборачивается «концом стиля» – где властвует антикультура, натура … «Флора и фауна дают урок постмодернизма» («Конец стиля»).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: