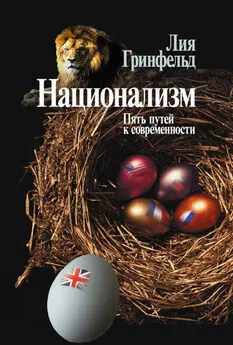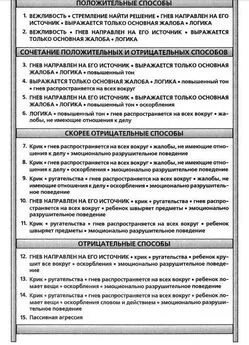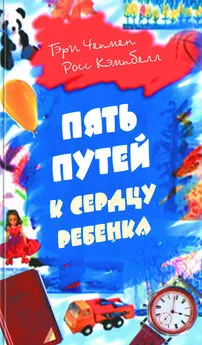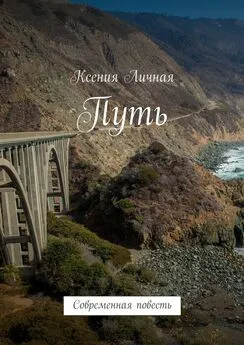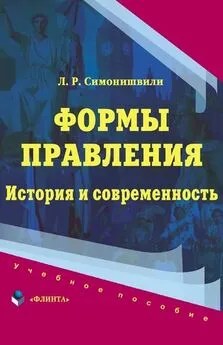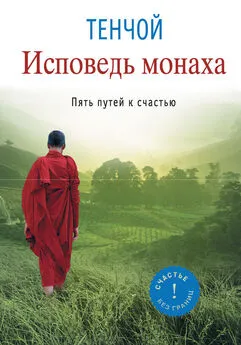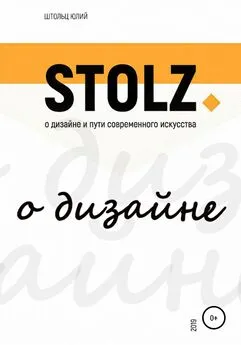Лия Гринфельд - Национализм. Пять путей к современности
- Название:Национализм. Пять путей к современности
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Когито-Центр»
- Год:2008
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9292-0164-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Лия Гринфельд - Национализм. Пять путей к современности краткое содержание
Национализм. Пять путей к современности - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Изгнание также привело к тому, что они стали акцентировать внимание на некоторых, ранее слабо артикулированных вещах, подразумеваемых национальной идентичностью. Новую, времен Генриха VIII, аристократию, к каковой принадлежали или надеялись принадлежать или из которой происходили изгнанники, идея «нация» привлекала с самого начала, потому что национальная идентичность делала каждого человека, обладавшего ею, членом элиты, и новые аристократы могли считать себя элитой de facto, хотя по рождению они к ней не принадлежали. Кроме того, данная идея превозносила патриотизм или службу нации как величайшую добродетель, а они явно были главным носителем этой добродетели. Идея «нация», то есть понятие народа определенной организованной общности (polity), государства как нации, подразумевала, что эта организованная общность уже является не вотчиной монарха, а общим достоянием («отечество»), общим и коллективным делом, в котором участвует много изначально равных партнеров. Монарх был представителем нации и получал свое право на управление от нее. Он не мог обращаться с нацией как со своей собственностью и царствовал не над территорией, а над элитой, исходя из общего интереса. До тех пор, пока монарх действительно правил исходя из общего блага, остальная часть нации должна была относиться к нему с благодарностью и подчиняться ему, но если доверие нации было предано, то монарх становился тираном и его можно было сместить. Глупо было бы на этом настаивать при Генрихе VIII или Эдуарде IV, да и нужды в том не было. Но при Марии I положение резко изменилось. Для нее Англия, на самом деле, была вотчиной, которой она желала управлять, в пользу интересов римской католической церкви. Таким образом, антимонархический посыл, заключенный в национальной идентичности следовало выразить словесно, чтобы защитить саму идентичность. Изгнанники подчеркивали возможность существования беззаконных правителей, и, в результате, в оставленных ими произведениях нация впервые явным образом была отделена от короны и была представлена как главный объект преданности сама по себе. Джон Пойнет (John Poynet), бывший одно время епископом Винчестерским и умерший в изгнании в 1556 году, был автором одного из самых важных сочинений. В нем он писал: «Люди должны относиться с большим уважением к своей стране, чем к своему правителю, и к общему благу (достоянию), государству (commonwealth) – с большим уважением, чем к одной отдельно взятой личности. Ибо страна и общее благо находятся ступенью выше короля». «Короли и властители, – добавил он, – сколь бы велики они ни были, суть лишь отдельные личности, и государства могут вполне благополучно существовать и процветать, хотя бы и без королей» [65].
Английские изгнанники были не единственными, кто писал в это время антимонархические сочинения, но если они позволяли себе поддаваться влиянию чужих идей, то происходило это из-за того положения, в котором они оказались. Именно оно сделало их исключительно восприимчивыми к такому влиянию. Из-за своего положения в меняющейся английской социальной структуре, которая открывала столько возможностей для подобных людей, они увлеклись протестантизмом. Будучи протестантами, они могли вернуть утраченное положение только в случае, если бы Англия опять стала протестантской. Протестантизм в Англии был возможен только, если Англия стала бы империей. А империей она могла бы быть (по крайней мере, они в это твердо верили), если бы она была нацией. Власть Марии I была вдвойне незаконной, поскольку она была и антинациональной и антипротестантской.
Именно поэтому во время короткого и безрадостного царствования королевы Марии I и во многом благодаря ее кровавому и ужасному правлению, борьба протестантов и борьба национальная стали тесно связаны между собой и даже переплелись друг с другом. В следующей половине столетия фактически было невозможно отделить одну от другой. Тем не менее во время самого царствования Марии I в умах масс национальное чувство явно доминировало над религиозным. Уже при Генрихе VIII венецианский посол Mishele отметил в отчете своему правительству, что англичане «будут ярыми последователями магометанской или иудейской веры, ежели их король будет исповедовать ту или иную, или прикажет им сделать это». Изменения доктрины, как при Генрихе VIII, так и при последующих королях, не привнесли ничего в религиозное рвение мирского населения, а, скорее, подорвали его остатки [66]. Рваческая политика протестантского протектората при Эдуарде привела к тому, что протестантизм стал ассоциироваться с коррумпированным правительством, так что в результате истовая католичка Мария I была действительно возведена на трон как «народная избранница» [67]. Большинство ее подданных восприняли возвращение к «святейшей католической вере» спокойно, если и не с облегчением; раскаявшись, если надо, без чрезмерной внутренней борьбы [68]. При Марии I палату общин характеризовали как «католическую по духу» [69]. Когда люди шли на свое мученичество, остальные англичане смотрели на это – правда, без всякого удовольствия, – но скорее потому, что они восхищались и симпатизировали лично этим людям, чем потому, что верили в незаконность гонений на протестантов за ересь. Поэтому народных протестов против сожжений не было. Совершенно очевидно, что отсутствие такового протеста никак не может быть отнесено за счет страха или неспособности населения к тому, чтобы его высказать, потому что в других случаях население протестовало очень определенно.
Восстание под предводительством Уайета (Wyatt) было прямым следствием отказа Марии I согласиться на петицию палаты общин от 16 ноября 1553 года и выйти замуж за англичанина, и ее настоятельного желания обвенчаться с королем Филиппом II Испанским. Призывы вождей восставших к тем, кого они пытались подстрекать и привлекать на свою сторону, вряд ли дают повод усомниться в национальной природе их восстания. «Ибо вы – наши друзья, – сказал Уайет. – Ибо вы – англичане. По сей причине, вы присоединитесь к нам, как и мы к вам и в самой смерти». «Религия не была причиной этого мятежа», – заявил близкий друг Уайета, который защищал его действия в 90-е годы XVI в., и Уайет сам наставлял своего сторонника-протестанта: «Вам не следует упоминать о религии, ибо это отвлечет от нас многие сердца». Из этого наставления очевидно, что он рассматривал религию скорее как разъединяющую, чем как объединяющую силу, и (что важнее) ожидалось, что национальная преданность и лояльность могли не зависеть и уже не зависели от конфессиональной принадлежности. Пять сотен лондонцев, посланных подавить восстание, перешли на сторону мятежников с криками: «Мы все – англичане!» Потенциальная опасность национальных призывов для режима Марии I была совершенно ясной. Мария I попыталась принизить национальный момент в восстании и представить его как еретический, религиозный бунт, для которого «вопрос о браке был всего лишь испанским плащом, чтобы прикрыть истинную сего бунта цель». Одновременно она постаралась умиротворить население, пообещав последовать совету парламента и выйти замуж за своего соотечественника. Несмотря на это, Уайет пошел на Лондон, население Лондона не решилось его поддержать, и хотя мятеж был в конце концов, подавлен, «Уайет подошел к тому, чтобы скинуть монарха с трона, ближе, чем какой-либо иной мятежник при Тюдорах» [70]. Тот факт, что этот явно национальный бунт имел в XVI в. какой-то отклик, в том веке, где можно было ожидать почти всеобщую апатию и безразличие к политическим делам, где среди населения был широко распространен страх перед восстаниями любого рода, кажется гораздо более важным, чем тот факт, что сей отклик был не столь уж значителен и восстание потерпело неудачу. Равно замечательным является отсутствие в этом мятеже религиозного момента. В конце концов, год-то был 1554.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: