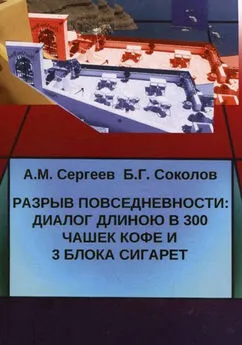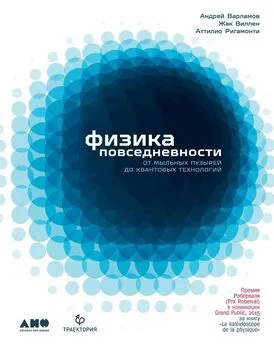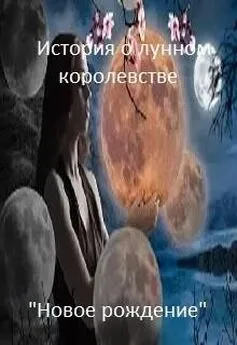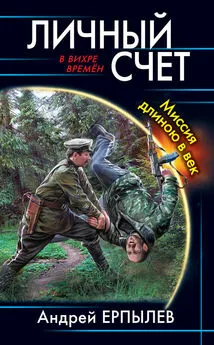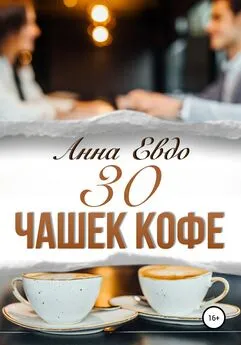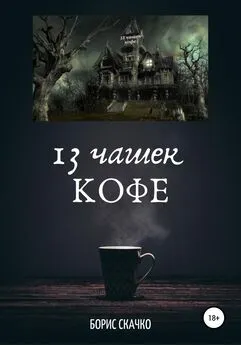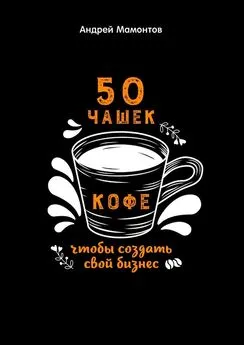Андрей Сергеев - Разрыв повседневности: диалог длиною в 300 чашек кофе и 3 блока сигарет
- Название:Разрыв повседневности: диалог длиною в 300 чашек кофе и 3 блока сигарет
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Алетейя»
- Год:2015
- Город:СПб
- ISBN:978-5-9906154-3-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Андрей Сергеев - Разрыв повседневности: диалог длиною в 300 чашек кофе и 3 блока сигарет краткое содержание
Разрыв повседневности: диалог длиною в 300 чашек кофе и 3 блока сигарет - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
но,
странность чего всегда присутствует при таком опознании. Вероятно, опознание сознания происходит в момент, когда оно побудило нас к познанию, но уже нас «произвело» и… оставило. Не удивительно поэтому, что, втягиваясь в жизнь и в намерения в ней как-то состояться и устроиться, мы отстраняемсяот сознания, стремясь прибегать к нему от случая к случаю, но в действительности нам не удается и этого. Сознание не терпит потребительского отношения: в этом случае мы из него выпадаем или, точнее сказать, от него отпадаем.
Устраиваясь в жизни, мы сознания избегаем. «Превращение» фактов жизни в факты сознания позволяет нам, напротив, как-то устроиться в сознании, оставляя жизненные перипетии. Понятно, каждый из нас как-то устраивается в своей жизни, но здесь надо особо выделить то, что такое «устроение» важно, если речь идет не о самой жизни вообще, а именно о своей – осознаваемой самим человеком – жизни. Посредством сознания жизнь рассматривается не только по линии ее «течения», но и в иныхракурсах и в иныхперспективах.
Важно понимать, что сам выбор жить сугубо своим, с позиции социума, может быть объявлен глупостью, тогда как принесение в жертву своего способно восприниматься нормой. Здесь мы сталкиваемся с противоречием субъективности и объективности, посредством которого реализуется двойственность нашей жизни, когда без сознания наша жизнь не может стать жизнью и распадается на хаотический конгломерат бесчисленных составляющих. И если объективное не встречает никакого препятствия на пути своего развития в виде субъективности, то маховик существования раскручивается все быстрее и быстрее, а в жизни человека исчезает своё. Иными словами, человек отчуждается от себя.
Однако, с другой стороны, если мы живем сугубо своим, замыкаясь в себе, то основания для формирования социального – общего с другими людьми – поля нет. Вот человек и становится ареной борьбы двух начал – борьбы субъективности и объективности, когда, выбирая только одно из начал и отказываясь от другого, он рискует многим. Иначе говоря, каждый человек периодически отмечает в себе того, кого он не может принять в качестве своего, и сталкивается с присутствием в себе другого, который с ним не совпадает. Отказавшись от двойственности и сосредоточиваясь исключительно на одном полюсе своей сущности, человек закрывает себе путь к другой своей «половине». Другое в себе можно открыть, отказываясь от состоятельности себя в прошлом. Мириться же с отказом от прошлогоспособен не каждый, ведь здесь неизбежно испытание разочарованием, которое может испугать не только неискушенного, но и опытного. Снятие чар – всегда больная
процедура
об-устройства, как настроенность настроением, но если второе про-исходит как экзистенциал, настраивая настроением «тональность» нашего мiра, делая мiр захваченным нашим настроением, то об-устроенность выстраивается, т. е. предстает перед нами как вполне временной процесс. Настроенный настроением мiр переменчив, как переменчиво настроение. Обустройство этого переменчивого мiра, меня как задающего меру и дрейф этой переменчивости, нахождение себя и своего, демаркация чужого и должного… Это постоянный процесс: процедуры обустройства уже не просто «раскрашивают» данности, но пытаются их изменить, подстроить себя под окружение, а окружение под себя. Прервать этот процесс невоз-
можно
сказать, что возможны два направления внутреннего движения: уход человека в себя и уход его от себя, причем для каждого из них характерна своя логика и своя идеология. В себя человек попадает, отвлекаясь от того, что к нему непосредственного отношения не имеет. С таким, обретшим свое место и свое время, человеком не просто совладать путем социального давления.
Но если все социальные институты дают сбои и человек не может на них опираться, а на себя опереться оказывается не способным, он начинает бежать от себя «со всех ног», ввязываясь «с головой» в любые действия. Он полагает, что таким образом сбежит от себя, но, конечно, не сбегает, а только утомляется, однако от усталости и растрат он не умнеет.
Здесь к месту будет заметить, что двойственность жизни проявляет себя во всем: любое дело, как и любая мысль, сразу же «обрастают» своими двойниками. Но если из дела как такового и из мысли как таковой человек «выбирается» всегда сам, на свой страх и риск, то из двойников выбраться почти невозможно по причине их онтологической несамостоятельности и несостоятельности. Связывая себя с двойниками мыслей и дел, мы запутываемся в себе, становясь дезориентированы внутренне.
Очень трудно принять принципиальную двойственность нашей жизни, допуская самостоятельность разных начал. Всегда как-то хочется все спрямить и исправить; хочется свести двойственность только к одному началу и расположить жизнь в параметрах не исчезающей ясности знания.
Дело не в том, что жизнь наша не познаваема и не понимаема. Напротив человек принципиально может познавать и понимать себя. Однако понимание и познание не могут быть однозначными, и в этом смысле некоторая чуждость человека себе не может исчезнуть. Иначе говоря, мы способны познавать себя, однако ввиду невозможности пережить себя, мы не можем познать себя полностью и всецело. Все дело в том, насколько мы готовы соотнести себя с разным и готовы ли мы признать своёв разном.
Обычно отношения с одним из начал нашей жизни воспринимаются в качестве определяющего. Трудно бывает удержаться от намерения отождествить все с одним основанием и фактически отстраниться от другого. И если мы идем на это, то получаем – в ответ на наши намерения – «двойника» выбранного нами начала. По мере дальнейшего развития мы сталкиваемся еще и с возрастанием количества двойников: по отношению к душе таким двойником становится тело; к сознанию – жизнь; к индивидуальному – социальное; к субъективному – объективное.
По-видимому, от двойственности и не нужно избавляться, а стоит открыть себя ей. Целое, с которым мы сталкиваемся, требует от нас целостного к себе отношения. Мы же всегда пребываем в частичномосвоении целого, когда относимся к двойственности нашего существа на основании игнорирования одной его части. Добавим, что целое сохраняет себя до тех пор, пока сохраняется баланс внутренних противодействий.
Надо понять, что столкновение с целым мы испытываем постоянно, хотя не замечаем этого. Чтобы впустить целое, человеку приходится отказываться от частного, причем идти на последовательный и постоянный отказ от этого. Наше обычное отношение с целым выстраивается на основе указания на него как на нечто, стоящее за конкретным. Целое, таким образом, понимается в качестве некоего мыслительного горизонта или мыслительной перспективы, в результате чего создается иллюзия возможности замкнуть такой горизонт или перспективу, выразив в качестве определенного понятия или совокупности понятий.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: