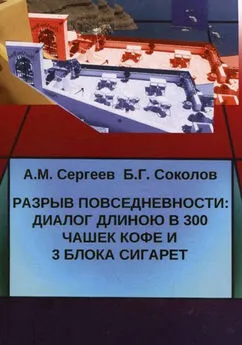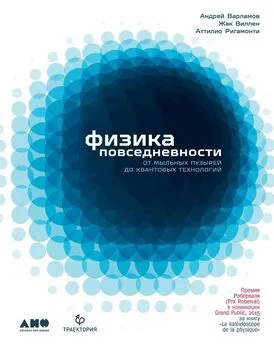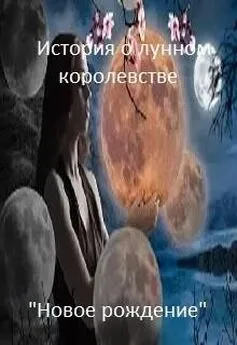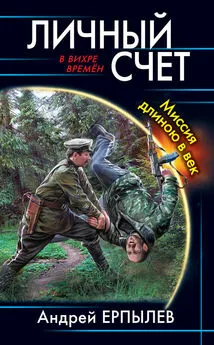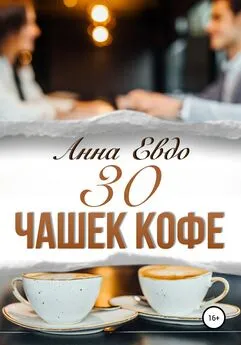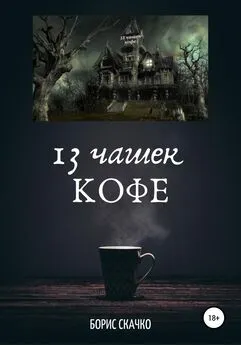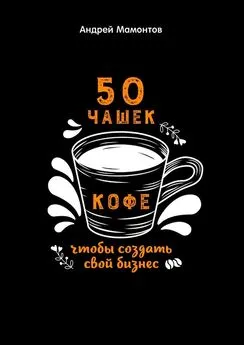Андрей Сергеев - Разрыв повседневности: диалог длиною в 300 чашек кофе и 3 блока сигарет
- Название:Разрыв повседневности: диалог длиною в 300 чашек кофе и 3 блока сигарет
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Алетейя»
- Год:2015
- Город:СПб
- ISBN:978-5-9906154-3-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Андрей Сергеев - Разрыв повседневности: диалог длиною в 300 чашек кофе и 3 блока сигарет краткое содержание
Разрыв повседневности: диалог длиною в 300 чашек кофе и 3 блока сигарет - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Я не буду сейчас проводить текстологический анализ приведенных фрагментов или заниматься их толкованием. Многие это сделали и сделают гораздо лучше: одна интерпретация М. Хайдеггера чего стоит! Для меня сейчас важно следующее: и в первом, и во втором текстах мы видим фиксацию указанного «архетипа», причем в предельно ясном и тематизированном виде. Правда, тематизирован этот «архетип» и в первом, и во втором случаях как космологический принцип. Даже боги вынуждены соблюдать принцип отдаривания, хотя, как известно, богам человеческий закон – не императив для их поступков. Во фрагменте Анаксимандра, уже в менее теологическом виде (и не случайно именно с него европейская философия начинает свою биографию), принцип «отдаривания» выступает как сущностный принцип бытийствования любого сущего. Система дара и отдаривания, иначе говоря, система равновесия и уравнения/уравнивания, – это форматирующая структура, выстраивающая наш мир. Именно в согласии с этим «архетипом» мы ждем и предчувствуем равновесие и равнодействие в мире, обнаруживаем порядок, систему в универсуме, надеемся на воздаяние по заслугам и опасаемся мести возмездия и т. п. Но эти ожидания не базируются на том, что смысл и порядок, уравнение и постоянство и т. п. присутствуют в мире самом по себе, но только на том, что мы изначально, в «момент» первичного конституирования мiра в наш мiр и «вложили». Нет, увы, нет в мире этого уравнения, особенно в той его части, которая относится к нашей солнечной системе, где, скорее, есть изначальный безвозмездный дар, чем «рефлекс» дар-отдаривания. Усомниться в этом равновесии, равенстве – это не столько «научная» гипотеза, что, понятно, дело особенно в наше время вполне допустимое, но отказ от всей системы человеческих координат, аморализм в высшем своем звучании. В самом деле: почему я должен отвечать за свои поступки? На основании какого «закона» действует принцип возмездия в правосудии? Если мы сомневаемся в данной системе координат, то отсюда, конечно, следует: «Все возможно». Но и, одновременно, из этого усомнения следует и то, что все – бессмысленно, ибо наша реальность, привычная и осмысленная, была инфицирована тем смыслом, который изначально размечен «архетипом» возмездности, воздаяния, уравнения…
И то, что подлецы торжествуют, убийцы становятся церковными иерархами, что чаще богатство и слава приходят не к достойным, а скорее, «наоборот», нас возмущает не по причине торжества «нигилизма» или «аморализма», а потому, что мы в бессилии прозреваем, что все «несколько не так» в нашем мире, как это рисует и приукрашивает нами же «созданный» способ видения и выстраивания нашего мира… Мы не познали еще, не приручили и не уговорили, наконец, то, чем сама по себе является
реальность
воздействия настроений проявляется в невозможности индивида, будь то человек или народ, существенно им сопротивляться, когда он независимо от себя может вдруг увлечься другими настроениями. В таком увлечении он идет на такие траты себя, которые грозят ему даже уничтожением и смертью, и нередко не считается с такими тратами.
Возникая и увлекая человека за собой, одно настроение не позволяет ему увидеть и осознать нечто другое, ибо человек всегдав каком-то настроении, но всегда в одном. Если он вдруг и замечает иное, то это открывается ему в иномнастроении.
Стоит признать, что любое настроение, т. е. то, что мы испытываем в качестве как-то настраивающей нас силы (а не испытываемого и не переживаемого нами настроения мы как такового не признаем и признать не сможем), всегда способно увлечь нас за собой. Вот почему проблема выявления своего непроста и требует внутреннего сосредоточения.
Человек пытается найти себя в ситуации, когда в пространстве и времени его жизни всегда дуют ветры разных настроений, каждое из которых способно подхватить и увлечь его за собой. Это – исторические настроения наций и народов, настроения эпохи, настроения близких и далеких нам людей. Вполне возможно, что многие из них, будучи примеряемы нами на себя, скорее, скроют от нас своё, но не откроют нас ему. Предельная собранность, т. е. собранность человека в себе, в этом случае замещается собранностью его в ином структурном поле. От такого – не своего – настроения стоило бы скорее избавиться, ибо оно собирает нас не в своей определенности, а за пределами себя.
Вышесказанное можно попробовать осмыслить и в ином ключе. Проблема двойственности нашей жизни непреодолима по причине того, что дело осознания себя нам никогда не удается закончить. Сознание – вещь принципиально не снимаемая: оно всегда заканчивается только под давлением жизненных обстоятельств, т. е. извне самого сознания.
Двойник – это всегда производная нашего сознания, помещаемая нами в жизнь: сначала есть мысль, а только уже потом возникает ее двойник. Двойственность выявляет себя в ситуации «пересечения» фактов сознания с фактами жизни, когда первые располагаются человекам внутри области его жизни. Следы такой двойственности повсеместны. Одним из них становится наполнение своей жизни артефактами, которые образованы именно не жизнью, а ее осознанием. Вот почему без двойников обойтись трудно, однако сделать это необходимо.
Занимая себя заботами по обеспечению условий существования, оказываешься в ситуации явного расширения места своего обитания при не менее явном сужении времени своей жизни. Причем при росте забот, связанных с обустройством мест существования, расплакиваешься не только уменьшением своего времени, но и утратой своего внутреннего места. Человек может к себе и не вернуться. Многие, впрочем, и не возвращаются.
В случае ухода от себя человек оставляет своё и «с головой» погружается в работу и процессы, строящиеся не на его собственных, а на социальных основаниях. Вернуться к себе становится все труднее, ибо такой человек легко управляем извне себя: без чужого он не может, а своего не знает. Значимо отношениечеловека к себе: именно в его нехватке и незнании себя суть дела.
Мы можем соединять факты сознания, прибегая к жизни. Обычно мы так и поступаем. Поступая так, мы все еще находимся в плену забот, которые предваряют работу сознания. Однако можно попробовать сопоставлять факты сознания на основе отнесения их к самому сознанию. И в этом случае это будет другая реальность. Причем история соединения фактов сознания на основе их переведения к жизненным ситуациям будет радикально отличаться от истории соединения фактов сознания на основе сознания. В первом случае над человеком довлеет жизнь, и он, испытывая такое давление, приучается к потребительскому отношению к сознанию, а то, что понимается под историей, сильно детерминировано жизнью. Во втором случае он не может не считаться с сознанием и, принимая его силу, начинает размышлять о прямом воздействии сознания на свою жизнь, прибегая, например, к образу судьбы. Тому, кто стремится жить вне сознания, этот образ неизвестен.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: