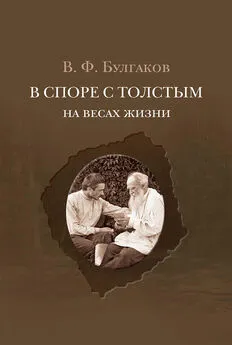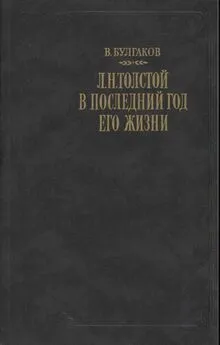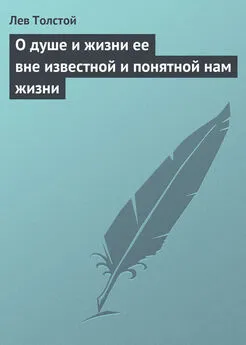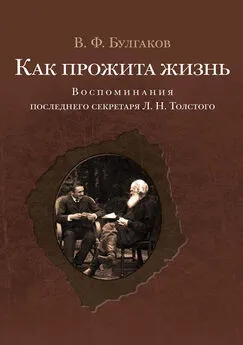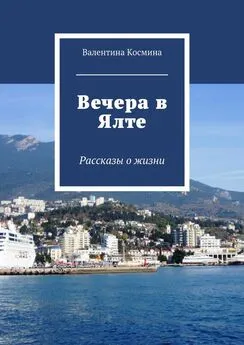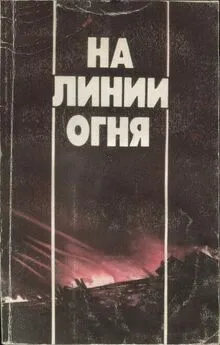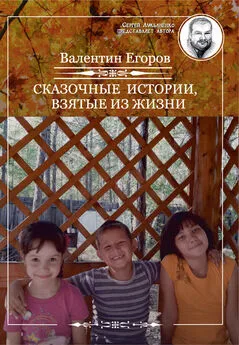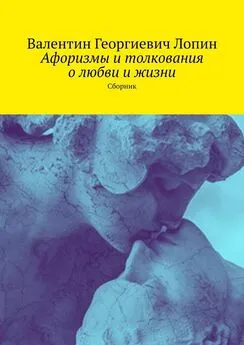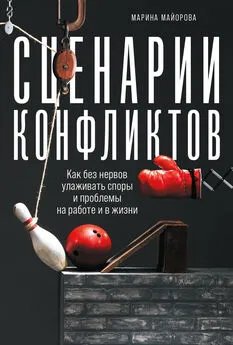Валентин Булгаков - В споре с Толстым. На весах жизни
- Название:В споре с Толстым. На весах жизни
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Кучково поле»
- Год:2014
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9950-0361-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Валентин Булгаков - В споре с Толстым. На весах жизни краткое содержание
Особый интерес вызывает многолетняя полемика Булгакова с Толстым, обостряющаяся во время его высылки из России в 1923 г. в Прагу, а также по возвращении в Советский Союз в 1948 г. и пребывании в Ясной Поляне до самой его кончины в 1966 г.
Книга будет интересна как литературоведам, так и широкому кругу читателей.
В споре с Толстым. На весах жизни - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В «Легенде о Великом Инквизиторе», как и в романе «Братья Карамазовы» вообще, Достоевский ищет реальных путей религиозного преображения жизни. Человек для него – воплощение Божества, но пребывающее и действующее в ограниченных, земных, материальных, телесных условиях. (Это хорошо показано на Алеше Карамазове.) Нельзя не учитывать этих условий как при выработке идеала личной нравственности, так и при выработке идеала социального. И не скорее ли мы придем таким образом к осуществлению заветов христианства?
Вопросом взаимоотношения духовного и телесного начал в человеке много занимался Вл. Соловьев в своей известной книге «Оправдание добра». И сначала вам кажется, что он вносит в этот вопрос значительную долю ясности. В самом деле, Соловьев категорически заявляет, что, собственно, в телесном и материальном, как таковом, он не видит никакого зла. «Никто не стыдится того, что он – существо телесное или материальное вообще; никому не стыдно иметь тело протяженное, определенных очертаний, с определенным весом и окраской». Иначе говоря, нам не стыдно всего того, что у нас есть общего с камнем, деревом, куском металла. Только в отношении того, в чем мы уподобляемся самым близким к нам существам из смежного с нами царства природы – высшим животным, является у нас чувство противоборства, показывающее, что именно здесь, где мы можем, действительно, слиться с материальной жизнью, – здесь-то мы и должны оторваться от нее и подняться над нею. «Тут, действительно, материальная природа выступает как зло, ибо она стремится разрушить то, что достойно бытия, как имеющее в себе возможность иного, лучшего, чем материальная жизнь, содержания. Не сама по себе, а только в этом своем дурном отношении к духу, материальная природа есть то, что, по библейской терминологии, называется плотью. Понятия о плотском не следует смешивать с понятием о телесном…» «Плоть, т. е. животная душа, – говорит далее Соловьев, – сильна только слабостью духа, живет только его смертью, а потому и дух для своего сохранения и усиления требует ослабления плоти, приведения ее из действующего состояния в потенциальное». Отсюда – нравственная норма: животная жизнь в человеке должна быть подчинена духовной.
До сих пор мы соглашаемся с Соловьевым. Разделение понятий телесного и плотского, действительно, существенно и важно. Мы соглашаемся, зная даже, что под «захватом материальной жизни, стремящейся сделать разумное существо человека страдательным орудием или же бесполезным придатком физического процесса», разумеется не что иное, как половое чувство. Отчего же? И половым чувством нужно владеть, и его бывает нужно сокращать. Дух, конечно, должен управлять телом, управлять и плотью.
Но дальнейшее нас разочаровывает. «Плотское условие размножения для человека есть зло», – говорит автор «Оправдания добра». Почему? «В нем, – видите ли, – выражается перевес бессмысленного (?!) материального процесса над самообладанием духа». Акт, являющийся ручательством жизни мира, представляется нашему философу «бессмысленным»!
«Это есть дело противное достоинству человека, – продолжает Соловьев, – гибель человеческой любви и жизни (?!). Нравственное отношение наше к этому факту должно быть решительно отрицательное: мы должны стать на путь его ограничения и упразднения» (?!).
И дальше разъясняется, что вопрос о том, «когда и как совершится это упразднение во всем человечестве или хотя бы в нас самих», является вопросом «вовсе не принадлежащим к нравственной области» (?); что «всецело превращение нашей плотской жизни в духовную не находится в нашей власти, будучи связано с общими усилиями исторического и космического процесса»… и т. д., и т. д. Начинается обычная церковщина. Соловьев от влияния монашеского духа не ушел и, состоя профессором философии Московского университета, в послекантовскую эпоху смело творит антикантианскую, ненаучную в полном смысле метафизику. Ни он, ни философы, подобные ему, никогда не понимали, что своими крайними аргументами в защиту духа и против плоти они только разоружали себя, отталкивая людей, и особенно свежую и еще сильно и искренно мыслящую молодежь, от такой философии и от такой метафизики.
Средние века обратили человека только в полчеловека: телесное начало в нем зачеркивалось, оставалось только духовное. По крайней мере, так приказывала теория. Во что это выливалось на практике, другое дело. Жизнь была, во всяком случае, невеселая и во многом изуверская. Эпоха Возрождения явилась реакцией против этого периода. По словам Вальтера Патера, историка этой эпохи, утверждение достоинства человеческой личности, – достоинства не по милости Церкви, а по праву рождения, – явилось противовесом все возраставшей тенденции средневековой религии обесценить человеческую природу, пожертвовать тем или иным элементом ее, заставить ее стыдиться себя, неизменно подчеркивать ее унизительные или болезненные стороны. Только теперь стало, наконец, возможным для человека утверждение своего я, реабилитация человеческой природы, тела, чувств, ума, сердца. Реформаторы заходили подчас даже слишком далеко. Так, их любовь, например, обращалась в своеобразное идолопоклонство, в какую-то странную противорелигию, содержанием которой было обожание телесного, искание услады чувству и фантазии. Это было возвращение Венеры и других античных богов, которые в скрытом виде обитали еще на нашей планете.
Но уже тогда встречались люди, которые хотели занять срединную позицию в борьбе телесного и духовного начал в нашей природе. Так, художник Боттичелли приемлет тот срединный мир, который Данте отвергает как недостойный ни неба, ни ада. Боттичелли равнодушен к возвышенной чистоте угодников Анджелико, как не влечет его и беспримерная мерзость «Ада» Орканьи. Не участвуя в гигантских конфликтах и не решая больших вопросов, он охотно остается в мире обыкновенных мужчин и женщин, столь привлекательных с их изменчивыми душевными состояниями. Ему среди них хорошо и легко.
Есть также автор неопубликованной поэмы XV века «La citta divina» 34Маттео Пальмьери, портрет которого делал Боттичелли. В своей поэме Пальмьери представил род человеческий воплощением тех ангелов, которые при возмущении Люцифера не стали ни на сторону Иеговы, ни на сторону его врагов. Иначе говоря, не ограничились ни одним только духовным, ни одним только телесным началом, а остались при какой-то середине чувств, симпатий, самосознания. Как это остроумно! как мудро! Согласно поэме Пальмьери, именно роду человеческому и написано воплощать в себе, сведенными в нечто единое, оба напрасно враждующие между собой начала.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: