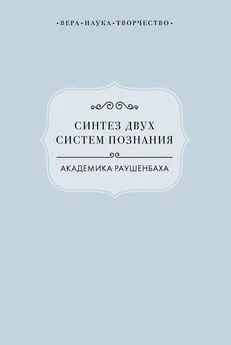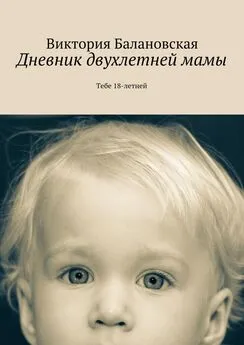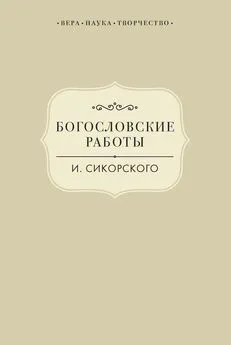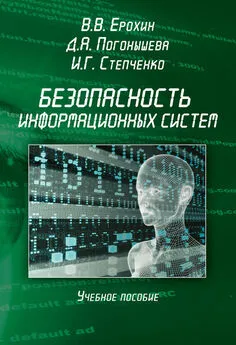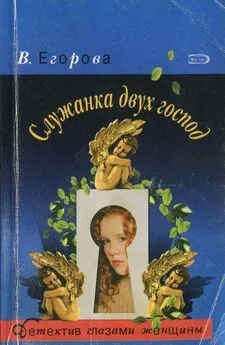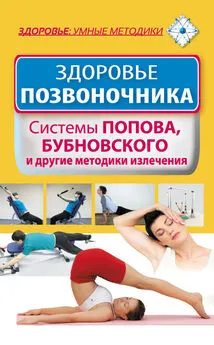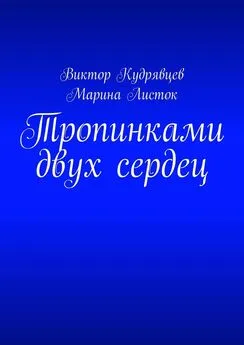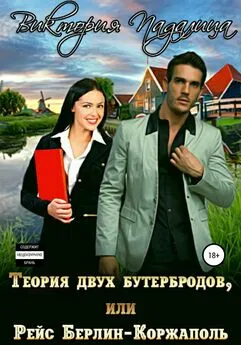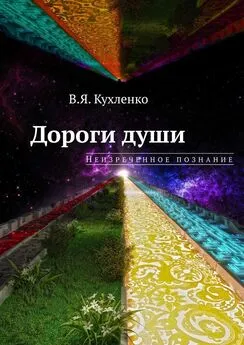Виктория Радишевская - Синтез двух систем познания академика Раушенбаха
- Название:Синтез двух систем познания академика Раушенбаха
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент ВегаПринт
- Год:2015
- Город:М.
- ISBN:978-5-91574-024-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Виктория Радишевская - Синтез двух систем познания академика Раушенбаха краткое содержание
Книга «Синтез двух систем познания академика Раушенбаха» является второй из серии издательства «Вера. Наука. Творчество», в которой представляется читателю религиозно-целостное миропонимание выдающихся деятелей отечественной науки и культуры на основе их сочинений и эпистолярного наследия.
Синтез двух систем познания академика Раушенбаха - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Зал был переполнен. Раушенбах повествовал об особенностях нелинейной перспективы, о живом, непосредственном восприятии мира, поясняя свои рассуждения геометрическими примерами. Надо признаться, не в них была притягательность, а в самом факте обращения ученого к выразительной сфере религиозного миропонимания. Так хотелось хоть намеком услышать подтверждение, что не только внешняя сторона его интересует, но и глубинное содержание. И я решился задать вопрос: не имеет ли докладчик в виду, что всякое зрение уже есть умо-зрение?
Ответ был однозначно отрицательным. «Меня интересует только математическая сторона вопроса». Трудно до конца было в это поверить, хотя Раушенбаху лукавство явно не свойственно… Думается, что поворот к философии иконы у него тогда все-таки наметился. Ибо позднее Борис Викторович скажет, вполне в духе Я. Буркхардта и П.А. Флоренского, что «именно в тот момент, когда в Греции совершается поворот от «мы» к «я», меняется система перспективы». Иными словами, прямая перспектива связана с укреплением индивидуалистического мировосприятия. И уже открыто будет говорить о том, что выразительные средства иконы подчинены задаче раскрытия христианской метафизики, «умозрения в красках», по крылатому выражению кн. Е.Н. Трубецкого…
Спустя несколько лет после этого доклада мне приходилось подписывать у Бориса Викторовича отзывы в поддержку разных готовившихся к печати книг (в их числе и сочинений философа Н.Ф. Федорова – квазиправославного «космиста»), но составить представление о какой-то его мировоззренческой эволюции оснований не было.
В конце 1980-х или начале 1990-х он приезжал с лекцией в Московскую духовную академию. Она была посвящена той реальной угрозе всей земной цивилизации, которая исходит от накопленного ядерного вооружения. Раушенбах был этим обеспокоен всерьез. Тогда был повод заговорить с ним и о более широких философских вопросах. Он уже давал понять, что симпатизирует русскому православию, не преминув кратко заметить: «Я вообще-то кальвинист». Думаю, что поняли мы его тогда правильно – он имел в виду не богословские убеждения, а обстоятельства своего крещения.
По дороге из Сергиева Посада в Москву мы довольно много говорили о русской религиозной философии. Борису Викторовичу были известны имена многих мыслителей, но сказать, что у него имелись какие-то особые симпатии, не могу.
Спустя несколько лет, в ходе тяжелой болезни Б.В. Раушенбах пережил состояние клинической смерти и об этом опыте, о том, к каким мировоззренческим решениям он его подтолкнул, поведал в своей книге «Постскриптум» (1999). По возвращении в сознание он «вспомнил», как, во всяком случае, ему казалось, свои состояния на грани иного мира, «туннель» и свет в конце его, широко описанные в литературе. Метафизическую значимость этого опыта нет резона обсуждать, ибо подобные явления могут быть объяснены и исходя из каких-то психологических и нейрофизиологических механизмов. Во всяком случае, древние греки были твердо убеждены, что переезд через Лету полностью стирает память «твердого диска» души…
Принципиально важно то, что с этого момента Борис Викторович стал больше доверять своей интуиции и решил перейти в православие, смирившись даже с тем, что его повторно крестили «как язычника»… Что поделаешь: не у всех представителей духовенства каноническое сознание одинаково ясное; было время, когда на Руси и католиков перекрещивали…
Соприкосновения со сферой религиозного опыта и размышления о ней у Б. Раушенбаха достаточно своеобразны и лежат в иной плоскости, нежели, скажем, у К. Циолковского или И. Сикорского, также всю жизнь занимавшихся авиакосмической наукой. Циолковский стремился свести христианство к метафизике атомов и пустоты и представлениям о множественности обитаемых миров; Сикорский, напротив, проникнувшись евангельским идеалом, ведет критику технократических тенденций земной цивилизации.
Раушенбах, по крайней мере до 1990-х годов, был достаточно далек и от метафизики, и от критики технократии. Он последовательно углублялся в область религии, стремясь сохранить опору в математических методах. Даже когда он понял, что заниматься иконой без богословских знаний особого смысла нет, он и к христианской догматике решил подойти как математик.
Сам Борис Викторович оценивал достигнутый им результат весьма оптимистично: «Четко сформулировав логические свойства Троицы, – пишет он, – сгруппировав их и уточнив, я вышел на математический объект, полностью соответствующий перечисленным свойствам, – это был самый обычный вектор с его ортогональными составляющими»…
Что тут можно сказать? Сколько подобных попыток делалось в течение двух тысяч лет, сколько выстраивалось аналогий и схем, от самых наивных до весьма утонченных, как, скажем, у Николая Кузанского… Вполне естественно, что догматические экскурсы Б.В. Раушенбаха столкнулись с совершенно справедливой критикой. В самом деле, что может математик «уточнять» в свойствах Божественных Лиц? У математики нет инструмента для различения таких смыслов, как «рождение», «исхождение», «творение». И никуда ей не деться от закона тождества. А христианская догматика и литургическая поэзия – совершенно другой природы. «В Рождестве девство сохранила еси, во Успении мира не оставила еси, Богородице…» – тут противоположности сверхразумно сходятся, тут «паче ума и смысла» двое-словие, или диа-лектика… Догматические определения возникали на конкретно-исторической почве, в ходе осмысления земной жизни Богочеловека, даже ангелам «несведомого таинства». Поэтому формальный результат, к которому Раушенбах пришел, был значим только для него самого.
Но дело все-таки не в результате. Как говорил Гегель, «голый результат есть труп, оставивший позади себя тенденцию». Экскурс в догматику явился этапом в неизменном стремлении Раушенбаха – обрести разумную веру.
Многое – в том числе и икона – так или иначе побуждало его, наряду с рационально-логическими возможностями человека, обратить внимание на эмоционально-интуитивные ресурсы миропознания. Достаточно долгое время он пытался подходить к ним в «картезианской» терминологии. Как только речь заходила об интуиции, о сердечном знании, он сразу апеллировал к правому полушарию головного мозга, так сказать, к «научной» или, скорее, механистической антропологической модели, согласно которой мышление логическое, дискурсивное реализуется левым полушарием.
И вот здесь у него обнажался внутренний конфликт. Он сам чувствовал, что «картезианский» язык не адекватен предмету, то есть именно человеку как образу Божию. И поэтому уточнял: «Но это очень грубая схема. Мне не хотелось бы, чтобы так препарировали человека: вот левое, вот правое, и они совершенно не связаны. На самом же деле человек – это некое единство, и ему свойственно целостное понимание мира. И обе части одинаково важны, и обе части одинаково дополняют друг друга, если можно так выразиться».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: