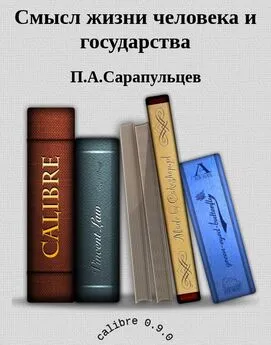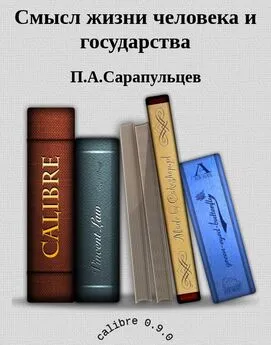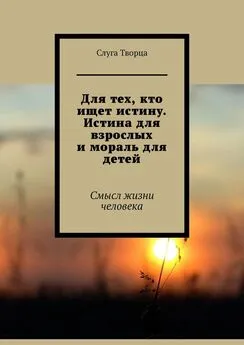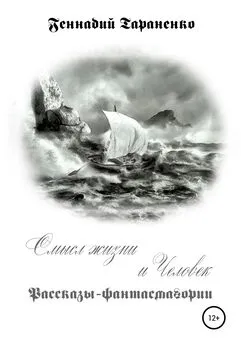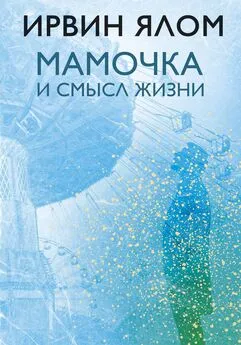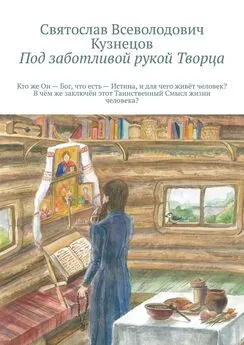Юрий Стрелец - Смысл жизни человека: от истории к вечности
- Название:Смысл жизни человека: от истории к вечности
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент БИБКОМ
- Год:2009
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Юрий Стрелец - Смысл жизни человека: от истории к вечности краткое содержание
Смысл жизни человека: от истории к вечности - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Так, в эпоху Возрождения провозглашается принцип гуманизма (от «humanum» – человечность). Само понятие восходит к Цицерону, а принцип означал отношение к человеку не как к средству, но как к цели.
Разумеется, общественно-экономическая жизнь невозможна без социального распределения (специализации) видов деятельности и без обменов ее результатами. Человек всегда вынужден «эксплуатировать» труд других людей, использовать их для своих нужд. Человек здесь – средство такого использования. Принцип же гуманизма означает существенное расширение отношения к человеку, означающее видение в нем (в каждом индивиде, безразлично к его социальному происхождению и положению, социальной карьере и прочее) конечной цели всех наших усилий. Человек родился, и с этим фундаментально экзистенциальным фактом надо считаться: человек изначально достоин нашего признания, (достоинство), до всякой оценки его «стоимости». Принцип гуманизма абстрактно пределен и, в то же время, конкретен, так как касается каждого.
Секуляризация – постепенное вынесение церковных установлений и догматической практики на периферию общественной жизни – также означала «возвращение к человеку» во всей его целостности, включая чувственность и телесность его бытия. Смысложизненная проблематика уже не ограничивалась деятельностью души, устремленный к спасению, но приобретала светский характер, связывалась с земными реалиями и целями. Оправдывается эвдемонистская трактовка конечной цели человеческого существования, согласно которой ею является счастье. Среди путей, ведущих к достижению этой цели, выделяется творчество: человек – не просто природное существо, стоящее на высшей ступени эволюции, но, прежде всего, творец, со-творец Бога, его активный помощник. При этом, сохраняется понимание человека как одухотворенной личности, что предохраняло от вульгарноматериалистической трактовки ее потенций и активности. Человек – свободное существо, творящее и самого себя. В этом, по мнению Пико делла Мирандолы («Речь о достоинстве человека»), и состоит основная его специфика, отличие от всех остальных живых существ. Животным Бог установил естественные рамки обитания и жизнедеятельности, в которых они относительно совершенны (относительно, в смысле их положения на лестнице жизни); человек же – некая «открытая», неспециализированная система, беспрерывно совершенствующая саму себя. Человек творит по меркам любого вида (К.Маркс), в силу такой неспециализированности и открытости. Отсюда, он способен к совершенствованию.
Высшее положение человека в цепи существ («венец творения») – не предмет для пустого бахвальства, а основание для его ответственности за всех «меньших братьев».
Такая, вполне современная экологическая позиция обосновывается гуманистами Ренессанса.
В отличие от средневековой трактовки предназначения человека, смысла его жизни, ренессансная позиция значительно ослабляет мотивы греховной сущности человека, «испорченности его природы». Реабилитируется земная жизнь, обыкновенный труд, право на комфорт и богатство, полученное праведным образом, личными усилиями. Франческо Петрарка, исследуя важнейшие факторы, влияющие на положение человека в социуме, отмечает, что, если порой фортуна (случай) доминирует над социальным происхождением, карьерным положением индивида, то его личные усилия и заслуги доминируют над фортуной.
Культ творческой деятельности, красоты, как ее результата, поднимается до идеи прометеизма (от Прометея – мифологического героя, укравшего для людей огонь у богов). Человек – творец обретает могущество, подобное Божественному и олицетворяет творчество как таковое.
При описании ренессансного мироотношения следует избегать и чрезмерного пафоса, восторженности, учитывая тот факт, что деятельность человека, в трактовке этой эпохи, имеет небескорыстный, а, напротив, утилитарный характер (от греч. utilitas – польза, выгода). Утилитаризм, как этическое направление, полагает, что целью человеческих поступков должно быть стремление извлекать из всего материальную выгоду, пользу. Происходит отождествление добра и пользы: заботясь о собственной пользе, стремясь к своему счастью, индивид способствует и общему благу. Так, земное измерение смысложизненной проблематики пробивало себе дорогу и в теоретическом, и в практическом, нравственном плане.
Проблематика смысла жизни в новоевропейской философии
Философская мысль любого периода ее истории не начинается с самой себя, а продолжает некие линии философствования до нее, либо возрождает прошлое, борясь с ним. Истина, как известно, «поднимает вокруг себя ветер дискуссий, дабы пошире разбросать семена истины». Только в этом смысле «в споре рождается истина», в противном – спор порождает ссору. Новое время – XVII век – не исключение, и во многом продолжает разговор, начатый в эпоху Возрождения. К позднему Ренессансу принадлежат знаменитые «Опыты» Мишеля Монтеня, чей здравый смысл и рассудок произвел огромное впечатление на великих рационалистов новоевропейской философии – Р. Декарта, Ф.Бэкона, Б.Спинозу и др.
Особенностью «Опытов» Монтеня является то, что они взяты из круга повседневной людской жизни, а не обращены к метафизическим первопринципам, недоступным обычному мышлению. Предметом размышления великого гасконца может быть что угодно: и воспитание детей, и чтение книг, и искусство беседы, и превратности судьбы, и страх смерти, и многое другое. Тот, кто захотел бы вычитать из «Опытов» строгую «науку жизни», ее теоретически выраженный смысл, был бы разочарован. Жизнь в трудах Монтеня присутствует, и рассуждения о ней, очень разносторонние, поражают широтой и глубиной. Однако, они не представлены виде аксиом, теорем в самом начале. Мы только постепенно приходим к более или менее ясным очертаниям «жизненных формул смысла», индуктивно (от частного к общему) двигаясь к ним по мере знакомства с разного рода «случаями из жизни». Эрудиция, действительный жизненный опыт Монтеня необычайно широки: со всем он знаком, обо всем он слышал, имеет собственное мнение по любому поводу. Это делает труд Монтеня «энциклопедией жизни», на уровне ее феноменов и представлений о них, практическим «учебником жизни», на базе которого и затруднены общие выводы (в силу широты материала) и, в то же время, вполне возможны, так как пищи для ума здесь весьма достаточное количество. Однозначность прочтения представляется невероятной, однако каждый читающий «Опыты» может, в принципе, выстроить собственную теорию жизни и ее смысла, опираясь, как будто, на чужой, и при этом универсальный опыт.
Универсальный опыт не может не быть противоречивым: «Если, например, Монтень, вслед за стоиками, принимается восхвалять самоубийство как «избавление от всех зол», то это для него отнюдь не помеха, чтобы страницей ниже пуститься в доказательство того, что напротив, «никакие злодеяния не могут заставить подлинную добродетель повернуться к жизни спиной…» 166 166 Косиков Г.К. Вступительная статья к: Монтень М. Опыты. Избранные главы: Пер. с фр. – М.: Правда, 1991.С.10.
Чему же верить? И, главное, как довериться такому «учителю жизни»? Дело здесь в том, что «Опыты» Монтеня аккумулируют «опыты» многих людей, далеко не всегда признанных мыслителей, и читаться должны как собрание многих книг, как подборка («раздаточный материал», говоря современным языком), предваряющая и настраивающая, даже провоцирующая дискуссию (дискуссии) на разные темы жизни.
Интервал:
Закладка: