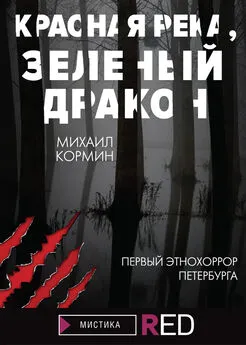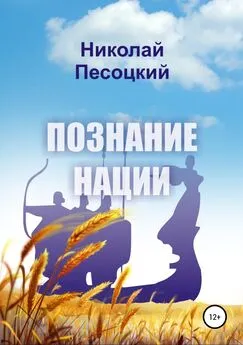Николай Кормин - Познание как произведение. Эстетический эскиз
- Название:Познание как произведение. Эстетический эскиз
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Знак
- Год:2017
- Город:Москва
- ISBN:978-5-94457-272-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Николай Кормин - Познание как произведение. Эстетический эскиз краткое содержание
Познание как произведение. Эстетический эскиз - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Образы познания «питают» собой практически все художественные события. Выявляя сходство между дионисовским человеком и Гамлетом, Ницше писал, что «и тому и другому довелось однажды действительно узреть сущность вещей, они совершили познание – и им стало противно действовать; ибо их поступки ничего не могут изменить в вечной сущности вещей, и им представляется смешным и позорным обращенное к ним предложение направить на путь истинный этот мир, сошедший с него. Познание убивает действие, для действия необходимо покрывало иллюзии – вот учение, и это не банальная мудрость Ганса-мечтателя, который из-за лишней рефлексии, как бы из-за переизбытка возможностей, не может дойти до действия; не рефлексия, нет! – а истинное познание, понимание ужасающей истины получает здесь перевес над каждым побуждающим к действию мотивом как у Гамлета, так и у дионисовского человека» [18] Ницше Ф. Полное собрание сочинений. М., 2005–2012. Т. 1.4. 1. С. 52.
. Метафизическая упругость произведения (мысли или искусства), оттенившего себя собственным пространством и временем, характеризует его свойство возвращаться в изначальную форму человечности, давать закон, вводящий антропологичность в начало всего и вся, в этом смысле произведение есть «текст, внутри которого создается тот человек, который способен его написать. В том разрезе, в каком мы движемся, мы должны утверждать, что произведения производят автора произведений, то есть из таинственных глубин человеческого “Я” они извлекают то, о чем человек в себе и не подозревал и чем он не мог бы стать без произведения, без текста» [19] Мамардашвили М. К. Беседы о мышлении. М., 2015. С. 346.
.
Познание – не только теоретически описываемый процесс, но и ностальгия по неизведанному, по вещи в себе. В его произведениях становится зримым мастерство исполнения невиданной сложности, необычайность рациональности, мера научного движения к неизвестному. Познание не есть только совокупность познавательных достижений или распределение предикатов, в его произведенческом ракурсе восполняется его конечность, выявляются дополнительные измерения познавательного акта, раскрывается искусство мышления, его тональность, интеллектуальное удовольствие, развивается интуиция, всплывающая в сознании, появляется возможность разыгрывать мир, «фундаментальная симметрия» (Гейзенберг) причины и следствия, необходимость попадания в эпистемологическую матрицу, которое сопровождается духовными открытиями. В родственной ей произведенческой матрице образуется совокупность истин о сознании, а само знание получает более высокий ранг концепта, с помощью которого оно предстает в виде «пучка» представлений, понятий, образов, схем, ассоциаций, переживаний, что сопутствуют ему Обращаясь к концепту фундаментального знания, мы исходим из того, что сам концепт – это «как бы сгусток культуры в сознании человека; то, в виде чего культура входит в ментальный мир человека» [20] Степанов Ю. С. Константы: Словарь русской культуры. Изд. 2-ое. М., 2001. С. 43.
. В этой концептуализированной области знаниевая материя вырисовывается как пластичная и гибкая, как не повторяющаяся ни в одной другой форме духовной жизни. На определенной стадии генезиса этого произведения обнаруживается его внутренний драматизм, свидетельствующий, что мир лишил нас возможности иметь его полностью познанным и доказанным, что мы не спаслись во времени. Познание в своем произведении раскрывается как пространство творческих всплесков, складывающееся посредством того, что Кант называл гармонией способностей познания, свободной игрой сил познания, продуктивным воображением. Такие эстетико-эпистемологические структуры, или то, что К. Поппер называл обитателями третьего мира, способны не просто программировать познание, ставить зеркало напротив реальности – ставить так, чтобы мы, как говорил Рене Магритт, видели мир «вне нас, и в то же самое время видели его представление внутри себя» (хотя, надо признать, провести границу между ними крайне сложно), именно из таких структур рождается собственноличная реальность произведения познания как специфической деятельности. В произведенческой материи эта деятельность предстает познанием через создание формы, здесь видно, как оно движется по захватывающей дух орбите, как налажен анализ, выстраивается симметрия различения, в этом опыте может сложиться живая форма ментальных состояний и возведена идеальная архитектура разума, на этой опытной площадке могут быть построены стилевые архетипы, произведены его камертонные настройки, здесь может быть выявлен пафос, характерный для всего научного творчества, может происходить диалог, скажем, импрессионистических приемов и современных концепций зрительного восприятия. Так создается целостный образ самого познания, запечатленный в его произведении, которое имеет некую рекурсивную силу, является opera operans; познание порождает, производит в произведении продуктивного воображения, озарения, инсайта то, что непереводимо в точное знание, на волне такой непереводимости сознание и бессознательное неразличимы между собой. Перед лицом произведения, контуры которого теряют свои четкие очертания, познающему нужно возрождаться вместе с другими субъектами познания, которые стоят перед лицом произведения, как художник перед ликом картины – подобно Казимиру Малевичу, который, по его словам, «проник в таинственное лицо черного квадрата» (письмо Эттингеру, апрель 1920 года). Но значит ли это, что познание творит познаваемую действительность, что оно тождественно процессу создания художественных текстов, что гносеологию можно редуцировать к конструктивистскому пониманию познания? Каждое научное достижение и произведение есть то, что входит в фонд знания, что составляет, по Канту, долю в уже накопленном богатстве познания. Произведенческий и допроизведенческий уровень познания – результат проявления определенного душевного состояния, которое «должно быть состоянием чувства свободной игры способностей представления при данном представлении для познания вообще. Представлению же, посредством которого дается предмет, чтобы из него вообще возникло познание, требуется способность воображения для синтеза многообразного [содержания] созерцания и рассудок для единства понятия, которое объединяет представления. Это состояние свободной игры способностей познания при представлении, посредством которого дается предмет, должно обладать всеобщей сообщаемостью, ибо познание, как определение объекта, с которым должны согласовываться данные представления (в каком угодно субъекте), есть единственный способ представления, который значим для каждого» [21] Кант И. Сочинения на немецком и русском языках. Т. 4. М., 2001. С. 185, 187.
. Речь идет о создании подвижником познания специфических текстов общения, предполагающих автономию и свободу по отношению к произведениям коллег, состояния предпонимания, сатори разума, на суд которого отдается столь многое в нас, изменения в неизменном, познавательное самовыражение личности, высказывающейся от имени реальности. Познание предполагает каждый раз возобновление внутри системы знания акта индивидуального присутствия личности «в мысли», герменевтику бесконечно рефлексированного внутри гносеологического субъекта творческого принципа, оно дает панорамный формат антропологических данных. Человек не может обойти себя, если стремится продвинуться к истокам знания, поэтому любая теория знания не выстраивается, если она не соизмерима с идеей личности. Композиция познания стирает грань между личностным и универсальным, она создает расположение духа, при котором размывается граница между субъектом и объектом, здесь они подлежат этико-символической переработке, но это не значит, что путь познания, который прокладывается личностно, приостанавливается, он проходится личностью и понимается ей на самой себе, хотя двигаясь к эпицентру сингулярности познания невозможно найти антропологически возможную часть того мира, который рисует нам знание, невозможно найти ни один предмет, которым личность может владеть. Правда, в некоторых современных исследованиях природы знания структура личности подвергается сомнению. Как полагает Лиотар, в ситуации гегемонии информатики можно «ожидать сильной экстериоризации знания относительно “знающего”, на какой бы ступени познания он ни находился. Старый принцип, по которому получение знания неотделимо от формирования ( Bildung ) разума и даже самой личности, устаревает и будет выходить из употребления. Такое отношение поставщиков и пользователей знания к самому знанию стремится и будет стремиться перенять форму отношения, которое производители и потребители товаров имеют с этими последними, т. е. стоимостную форму (forme valeur). Знание производится и будет производиться для того, чтобы быть проданным, оно потребляется и будет потребляться, чтобы обрести стоимость в новом продукте и, в обоих этих случаях, чтобы быть обмененным. Оно перестает быть самоцелью и теряет свою “потребительную стоимость”» [22] Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна. М.; СПб., 1998. С. 18.
. Но перенос социальных понятий на область гносеологических явлений мало что проясняет в производстве смысла самого познания, кроме того, встает вопрос, в какой системе отсчета можно говорить о такого рода процессах, как метафизически различать знание и разум, тем более что отделение, разъединение знания и личности имплицируется только при помощи метафизического априори и апостериори как интегральной схемы с типами логики, каждый элемент которой предназначен для описания произведенного, произведения. Думаю, не будет преувеличением сказать, что подобная процедура рассмотрения знания, выполненная в интересующем нас аспекте, подходит скорее к социологии искусства, чем к эстетике. Ведь эстетика предполагает некий мерцающий внутренний акт, который совершенен и строится не «в смысле интеллектуально-познавательном, а в смысле подкрепляющего (или подпирающего, как атмосферный столб) крестного движения и пути: заглянуть за черту, расшириться до пределов вообще человечески возможного (самое прекрасное зрелище!), ибо мера нам неизвестна, ее и нет как предданной заранее» [23] Мамардашвили М. К. Психологическая топология пути (1). Кн. XII. М., 2015. С. 775.
. С эстетическим созерцанием и переживанием этого трансцендентального представления неизменно сочетается вещь в себе и произведение свободы.
Интервал:
Закладка:
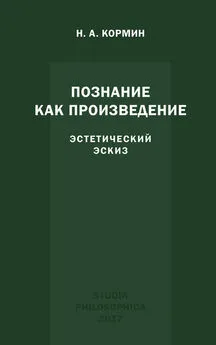

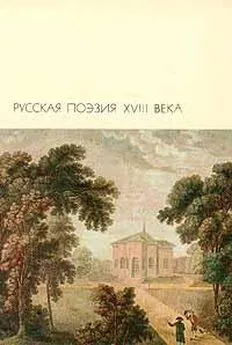
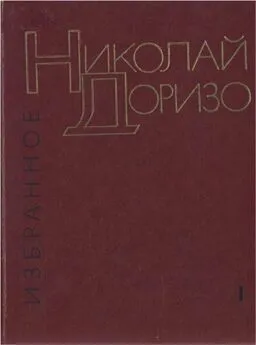
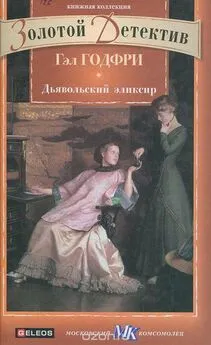
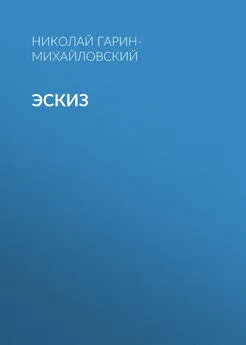
![Михаил Кормин - Красная река, зеленый дракон [litres]](/books/1147848/mihail-kormin-krasnaya-reka-zelenyj-drakon-litres.webp)