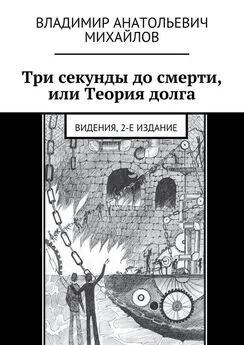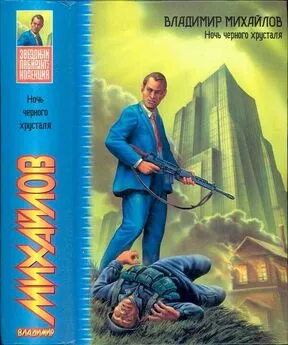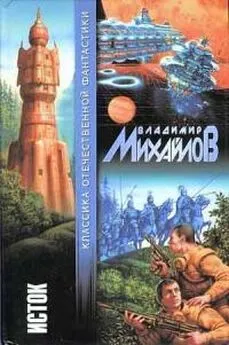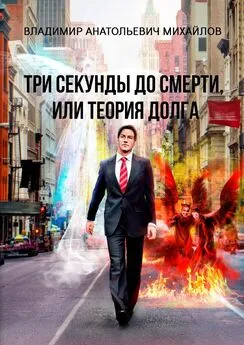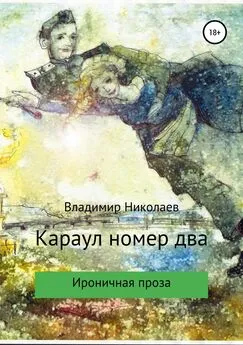Владимир Михайлов - Решение номер три (Сборник)
- Название:Решение номер три (Сборник)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Эксмо
- Год:2005
- Город:Москва
- ISBN:5-699-12392-Х
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Михайлов - Решение номер три (Сборник) краткое содержание
Когда стреляют пушки, стучат клавиши компьютеров, шуршат казначейские билеты – колдуны и маги помалкивают, просто потому, что здесь, в мире, населенном прагматиками и атеистами, их нет и быть не может. Но куда тогда могла исчезнуть целая планета, не оставив по себе и следа? Почему ходят упорные слухи о каких-то таинственных формулах управления реальностью, якобы найденных полвека назад монахом-математиком? И чем объяснить потрясающую, удачливость самого богатого мошенника современности, как не вмешательством потусторонних сил? Или причины в другом? Тогда в чем?
В сборник вошли произведения:
• Методика Наюгиры
• Триада куранта
• Джокеры Марса
• Игра в звуки
• Отработавший инструмент отправляют в переплавку
• О спорт, ты…
• Дом
• Ревность
• Решение номер три
• День после соловьев, год седьмой
• Хождение сквозь эры
Решение номер три (Сборник) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
После смерти Сталина и низложения Берии обстановка изменилась. Контрразведчиков обвиняли в отрыве от масс, они стали куда улыбчивее и как бы лишились той таинственности, какая до того их окружала. А меня вскоре пригласили в дивизионную газету, в которую я давно пописывал, на должность литсотрудника. Точнее – исполняющим обязанности, поскольку должность была офицерской, я же по-прежнему носил на погонах три лычки. Пригласили – хотя в разговоре я предупредил редактора о моей, так сказать, неполноценности. Его это не испугало.
Меня прикомандировали к редакции, а числиться я продолжал всё в той же второй пулемётной, хотя жил вместе с ребятами из типографии уже не в расположении полка. Редакция имела свою типографию, даже две: стационарную, и походную, смонтированную на грузовике. Состояла редакция из трёх человек: редактор (подполковник), ответственный секретарь (капитан) и я; типографию возглавлял печатник (старшина-сверхсрочник, или, на жаргоне того времени, макаронник) и два наборщика – рядовые. Набор был ручным. Газета представляла собой двухполоску половинного формата («Половина Правды», так назывался тогда такой формат), выходила два, кажется, раза в неделю и носила гриф «Из части не выносить».
Я мотался по полкам и отдельным частям дивизии, писал всё, что нужно было, и организовывал авторские материалы. Работа была подвижной, но скучной: военная цензура знала своё дело, и после её вмешательства описание любого учения, любой операции выглядело примерно так: «Военнослужащий Иванов получил приказание провести сложную боевую операцию. Показав хорошую воинскую выучку и солдатскую сноровку, правильно используя вверенную ему военную технику, Иванов и его боевые товарищи отлично справились с заданием и по возвращении были поощрены старшим начальником». В такой текст превращалась и корреспонденция о рейде разведчиков-мотоциклистов по тылам условного противника во время больших учений, и атака танкового батальона, – да вообще всё, что угодно.
Когда почти четыре года моей службы подошли к концу (вместо положенных трёх; но добавку в полгода всякий, призванный весной, получал как бы автоматически, потому что призывали дважды в год, но увольняли только осенью, а потом пришлось ещё задержаться до прибытия нового литсотрудника), редактор предложил мне остаться в кадрах: «Присвоим тебе звание, и будешь служить».
Это был повод для серьёзных раздумий. Армия – это образ жизни, и к нему, особенно в молодом возрасте, легко привыкаешь. Возникает своя система ценностей; так, на улице большого города генерал – это не бог весть что; а в расположении части лейтенант – это уже много. «Гражданка» уже немного пугала: в армии, при всех возможных тяготах, тебя кормят, и одевают, и обстирывают, и про баню не позволят забыть… Тем более что у меня проявился вкус к газетной работе, который в дальнейшем – я уж не знаю, больше помог ли мне или помешал. И то и другое, наверное. Но я уже понял тогда и то, что военная журналистика даёт намного меньше для профессионального развития, чем гражданская, – тем более на уровне дивизионной газеты. И я решил, что всё-таки рискну – и уволюсь в запас.
В Латвию мы возвращались вдвоём с товарищем, призывавшимся из Риги; в полку он был художником. Купили бутылку водки – и так её и не выпили: почему-то пропало желание. Хотя, будь мы ещё в строю, вряд ли упустили бы такую возможность: запретный плод сладок.
Вернувшись из армии, я, естественно, прежде всего навестил прокуратуру. По закону, человеку, призванному в армию, после его возвращения со службы должны предоставить ту работу, с которой он призывался. Однако на моём месте работал, естественно, другой человек. Прокурору очень хотелось, чтобы я вернулся за свой стол. Однако прокуратура республики решила направить меня в другой район. При этом мне намекнули, что там хорошая перспектива: прокурора собирались заменить, он стал слишком много пить. Я, на всякий случай, сходил в районную газету, показал там полученную в дивизионке характеристику, сказал, что хотел бы работать в редакции. Со мной поговорили доброжелательно, но сказали, что сейчас мест нет, надо подождать. Однако ждать я не мог: на срочной службе чего у солдата и даже сержанта нет – это денег, так что, вернувшись, надо было сразу как-то зарабатывать. Я готов был согласиться с республиканскими кадровиками и ехать в новый район, но прокурор сказал:
– Постой. Пойдём к первому секретарю райкома: он – человек уважаемый, член ЦК, если он согласится поговорить в Риге, то ему пойдут навстречу.
Сказанное меня не удивило: в Латвии не было областного деления (оно возникло было, но лишь на короткое время), так что секретарь райкома партии был последней инстанцией перед ЦК.
Секретарь выслушал нас и сказал мне:
– И чего тебе далась эта прокуратура? Плюнь. Иди работать ко мне.
– А возьмёте?
– Сказал же!.. Иди в орготдел, заполни анкету…
Анкету я заполнил. И на этот раз не стал «забывать» никаких деталей своей биографии. Хитрить больше не хотелось.
Инструктор орготдела прочитал мои бумаги и поджал губы. Но ничего не сказал. А первому секретарю, похоже, не хотелось брать своё обещание назад. Хотя – он всегда был человеком самостоятельным, в войну партизанил и, похоже, не боялся никого на свете.
Я начал работать в райкоме инструктором отдела пропаганды и агитации.
В то время о партийной работе у меня были самые туманные представления. Я не понимал её сути и смысла. Отношение к ней было у меня самым романтическим. Но в первую очередь мною руководил тот же самый мотив: мою мать оторвали от этой работы – я должен занять её место.
Тем более что партию и страну возглавлял тогда Никита Сергеевич Хрущёв, который руководил Московским обкомом, когда мать ещё работала там. И в воздухе пахло оттепелью.
Я очень радовался тому, что так получилось.
Но чем дольше я работал, тем меньше понимал и тем больше сомневался.
Райком был сельским; вскоре его разделили на зоны МТС, и в каждой работала своя группа инструкторов во главе с одним из секретарей райкома. Большую часть времени мы проводили в колхозах. Но почти сразу у меня возникло впечатление, позже перешедшее в уверенность, что мы на селе совершенно не нужны и делать нам там нечего. Председатели колхозов с нами не считались, отлично зная, что от нас ничего не зависит. Они признавали лишь первого секретаря райкома: все рычаги власти в районе были у него, он мог что-то прибавить и что-то убавить, помочь получить какую-то технику и прочее. Но мы продолжали сидеть то в одном колхозе, то в другом – и потому, что так полагалось, и ещё по той причине, что за каждый день получали командировочные. Пусть гроши – но зарплата у нас была обычной для среднего чиновника – я получал на двадцать рублей больше, чем в прокуратуре, так что каждый лишний рубль почитался за благо. Вопреки существующим представлениям, у нас не было никаких пайков, спецмагазинов, дополнительных выплат и так далее. Может быть, в столице это и существовало, но в глубинке мы жили ничуть не лучше, чем вся масса служащих, – тех, кто не был связан с какими-то материальными благами. И считали это совершенно естественным.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:


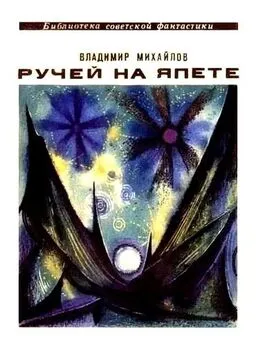
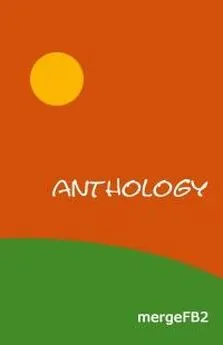
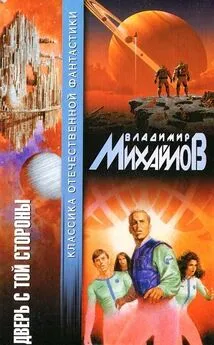
![Владимир Михайлов - Дверь с той стороны [Сборник]](/books/570059/vladimir-mihajlov-dver-s-toj-storony-sbornik.webp)