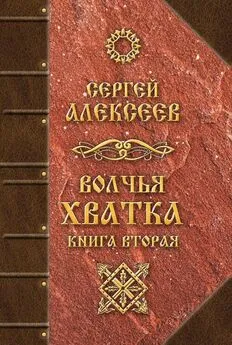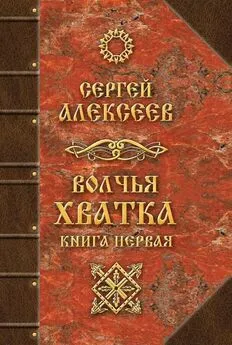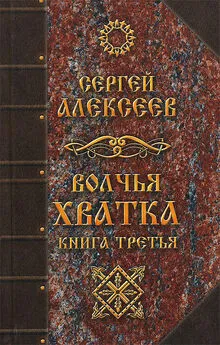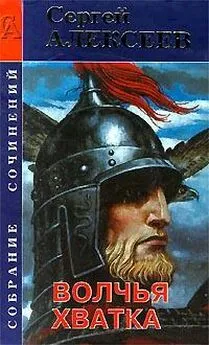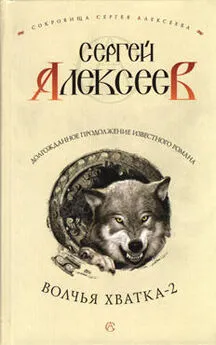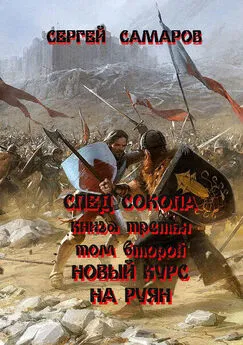Сергей Алексеев - Волчья хватка. Книга третья
- Название:Волчья хватка. Книга третья
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Страга Севера
- Год:2014
- Город:Москва
- ISBN:978-5906412-13-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Алексеев - Волчья хватка. Книга третья краткое содержание
Сергей Алексеев в своём романе «Волчья хватка. Книга 3» касается и других аспектов жизни аракса Ражного. Всё происходящее — это испытания главного героя: может ли он стать старцем Пересветом, чтобы принести небесный огонь, зарядить сердца и души воинов на поле брани. Таким мог быть только мужчина из рода Ражных. Для этого ему нужно не искуситься земными девами (поскольку любовь — слабое место мужчины) и упорно стремиться найти Белую Диву, которая и есть символ истины, чтобы испытать настоящие чувства, оставить потомство.
То есть последнего мужчину из рода Ражных пытались вырвать из мирской суеты, чтобы воскресить ярое сердце воина, потом дополнить его женским существом, чтобы он мог продлить род. Из произведения Сергея Алексеева «Волчья хватка» вы узнаете, пройдёт ли герой путь духовного совершенства, чтобы исполнить своё роковое предназначение, которое опутано невидимыми нитями прошлого, связанного с тайнами судьбы его предка.
Волчья хватка. Книга третья - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Иное дело баскачьи призоры, стоявшие на всех дорогах. Ордынцы в сёлах и городах редко показывались, раз–два в год лишь наезжали за данью либо недоимками прошлых лет. Если дома сидеть, то вроде бы и не досаждают особо, но всякое передвижение под надзором держалось строго. Сами будучи вольными, татары знали, как смирить и обезволить Русь, показывая, чья власть довлеет на просторах. Довольно было перекрыть пути, поставить всюду свои заслоны и всякому проезжему и прохожему спрос учинять, дорожную грамоту требовать либо малый откуп за проезд. Вроде бы дело пустяшное, но каково унижение! Каково глумление, коль урезать жажду движения, стреножить, окалечить весь народ!
На московской дороге бывало по три баскачьих призора, причём два из них не озоровали, но всякий обоз останавливали, вызнавали, кто едет, куда и по какой нужде, досматривали, что за товар везут, чаще выпрашивали некие безделицы, а то и покупали за грош. А третий непременно лихоимствовал, что по нраву придётся, силой отнимали даже коней. И все они любопытствовали, коль попадались подводы с железным кованым товаром. Если узрят доспех, кольчуги, мечи, топоры, навершия копий, стрелы и прочее оружие, тут уж всё переберут, пересчитают, но не отнимут–себе отметку сделают и отпустят. Так оружейные кузнецы и бронники, давно изведав их свычай, баскачьи призоры либо стороною объезжали, либо прятали в возы с сеном, коих шло по дорогам многие сотни, либо пускались на иные хитрости.
Ордынцы чуяли приближение грозного часа, считали силу русскую. И верно, чутьём ли, животным нюхом или молвой насытясь, слухами напитавшись, не трогая духовных лиц согласно ярлыку митрополита, следили за их передвижением, как за оружием. Поэтому игумен с братией, скорбя и негодуя, переоделись в охабни, порты да валяные пимыи, дабы баскачий нюх отбить, улавливающий ладан, вкусили мочёной черемши сполна. Дыхнёшь разок, татарин с ног валится и отползает.
—Кабахетлек! — кричит. — Пычраклык! Бук! Бук! То есть будто мерзость, грязь, хотя от самого разит, хоть нос зажимай.
Бани не ведают, всю зиму спят, не раздеваясь, в своих юртах, да ещё салом мажутся от холода. Вот так друг друга уже полтораста лет на нюх не переносили и свыкнуться не могли. Но опять же какой призор встретится на дороге: баскаков часто меняли, чтоб не якшались с проезжими, дружбы не заводили. Иные попадутся таковы, лишь только по одежде и узришь ордынцев. Налицо вроде русины, и бородаты, и взоры светлые, да говорят чудно, однако же имена и повадки татарские. Кто побывал в Алтын Орде и Мамаевом стане на Днепре, кому доводилось ездить в Сарай на Волге, сказывали, народ Улуса Джучи разноплеменный, сшит, ровно лоскутное одеяло, и до великой замятни вера у всех была разная. Кто каменным болванам поклонялся, кто огню, кто солнцу, и все друг друга терпели. Но когда хан Узбек принял магометанство, так и начались распри да междоусобья — замятня, одним словом.
Митрополит Алексий у татар бывал подолгу, потому и ратовал за мир с Ордой. Дескать, она сама, подобно гаду ползучему, укусит себя за хвост и сгинет от собственного яда. Мол, из–за Камня идёт на Мамая хан Тохтамыш, поставленный Тимуром, и уже многие области за Волгой повоевал и покорил. Дай срок, схватится с темником и победит его. А победивши, возомнит о себе и восстанет супротив своего покровителя восточного, и в великих битвах между собой они покалечат или вовсе убьют друг друга, а Русь таким образом освободится от неволи.
Пожалуй, Алексий так бы и жил в заблуждениях, теша себя и паству обманчивой надеждой, коль не насмелился приехать к ослабленному старцу– схимнику и ночь с ним скоротать в его келейке. Наутро не пожелал даже проститься с игуменом, покинул Троицкую пустынь и словом не обмолвился, о чём беседовали с отшельником. Но Сергий ведал о причине столь скорых перемен митрополичьих, ибо когда–то сам был просветлён Ослабом. Повоевав Мамая, позрев на слабую Русь, хан Тохтамыш, потомок Чингисхана, и вовсе её подомнёт под себя, как медведь неловкого охотника. И данью таковой обложит, что последнюю рубаху придётся снять и в Орду снести. Питали одного змея, станем питать иного, многоглавого. А потому не след ждать, когда гад пожрёт себя, а вызвать его на великую битву. Мамай угоден Кафе, Риму и всему миру той стороны, где западает солнце, ибо вся его добыча — суть, товар, кровь, питающая плоть ненасытную. Запад страшится Тохтамыша и будет уповать на то, что Русь опять встанет заслоном от грозного Востока. Но победа над Мамаевой Ордой остепенит обе стороны света, понудит их признать равной себе.
Нет, битв в будущем не избежать ни с Западом, ни с Востоком, ибо Русь на путях стоит, на тропах между земным и небесным, а потому ей без Засадного полка не обойтись.
Верно, Алексий внял голосу старца–отшельника, возвратившись в Москву, долго размышлял, укрепился духом и вот уж стал кричать с амвонов и папертей. Но ослабленный не по доброй воле, а от старости изветшавший, не способен уже был перелить силу тела в мощь гласа своего и услышан был разве что супостатом…
Так и ехал игумен, в ночной дороге перебирая мысли о том, что уже было и чему быть должно.
На Яузе, уже в рассветный час, когда улеглась метель, дорогу заслонили татары. Двое остались у костра, разложенного прямо на санном следу, а четверо вскочили на коней и выехали чуть вперёд, поджидая обоз с иноками в розвальнях. Не лисьи шапки бы, не камчи в руках да не сальные лица, и впрямь не признать за ордынцев. Бывалый инок, ехавший в одних санях с игуменом, шепнуть успел:
— Кыргызы не спустят. Да и мы не лыком шиты…
И знак подал иным араксам, бич распустив справа от санного следа.
Баскаки оказались двуязычными: с проезжими говорили речью чудной и схожей, как говорят в беломорских землях. Между собой горготали, ровно грачи весенние, — чтоб скрыть, о чём судачат, полагая, что их языку не внемлют. Алексий называл таких кыргызами, татары кликали — аккуз, за светлые, то есть голубые глаза, а сами они именовали себя чудью. И было у них ещё одно прозвание, ветхое — хунны, коими и прежде их на Руси знали, ибо у самой чуди суще было предание, как без малого тысячу лет назад под водительством царя Аттилы они уже приходили в эти земли, изведали их вдоль и поперёк, но никогда не воевали. Де–мол, прежние князья всюду пропускали и помнили, что они одного, скифского, рода братья. Пропускали, позволяя жить своими станами и городами в Дикополье, близ тёплых морей. И приходили они воевать Византию, Рим, италийцев и прочие страны Запада, которые впоследствии долго держали под данью. После того ветхого нашествия многие хунны так и остались жить в Руси, и иные княжеские и боярские роды берут начало от их родов. А простолюдье так и вовсе смешалось, никто не разберёт.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
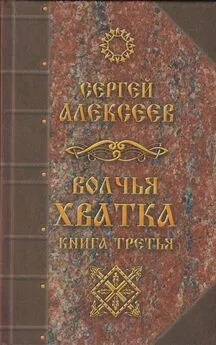
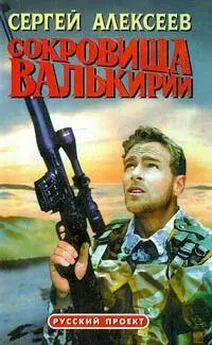
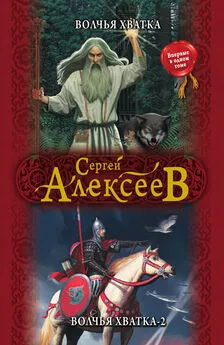
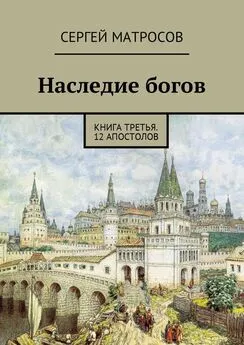
![Сергей Самаров - След Сокола. Книга третья. Том второй. Новый курс – на Руян [litres]](/books/1071893/sergej-samarov-sled-sokola-kniga-tretya-tom-vtor.webp)