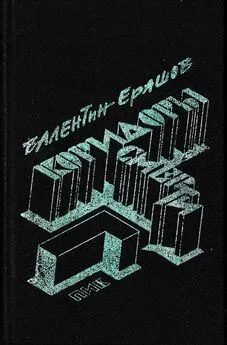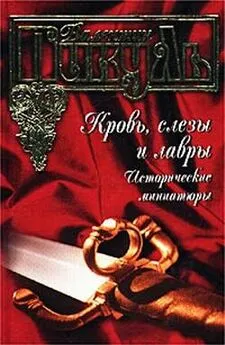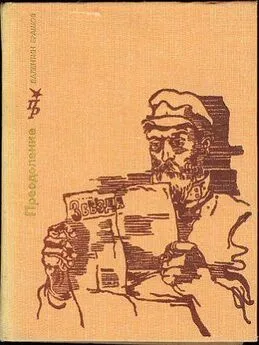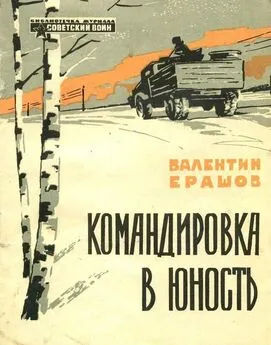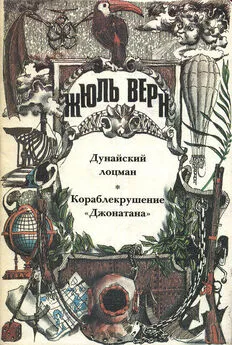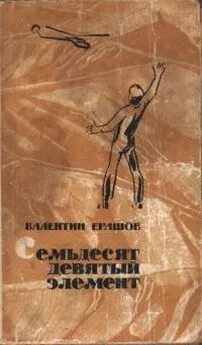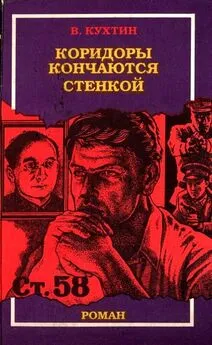Валентин Ерашов - Коридоры смерти. Рассказы
- Название:Коридоры смерти. Рассказы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Независимое издательство ПИК
- Год:1990
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Валентин Ерашов - Коридоры смерти. Рассказы краткое содержание
Коридоры смерти. Рассказы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Сирый фонарь — видом как ночная посудина — мотается у дверей, то сдлиняя, то укорачивая на снегу желтую проплешину. Отзывчивый на звуки двор сейчас немой, а стены слепые. Ночью пуржило, у каждого крыльца намет, вчерашние тропинки еле обозначены. Требуется подналечь, к восьми сотворить дела здесь, а к девяти — у парадного, чтобы после для блезиру шоркать метлою и ждать, пока появятся жаждущие славы, гонораров, общения со жрецами литературного храма сего.
И он восходил на заветные эти ступени лет этак тридцать назад. Легко нес пустое брюхо, сворачивал ноздри вбок от нектарного запаха жаренных вроде на мазуте пирожков, с почтением озирая озабоченные лики бегущих в столовку хлебать пшенку с плоской рыжей селедкой. Храму он поклонялся каждый понедельник, неся в жертву новый рассказ: листки оберточной бумаги плотно утыканы буквами, убережены дурацкой, величиной с газетину старорежимной папкой на витом шнуре и с тиснением на заграничном языке: Müsik. Двое авгуров священнодействовали за обшарпанными столами: один молодой, глупый я добрый, второй — старый, злой и умный. Принимали у него листки, с возвратом прошлонедельных, молча хохотали вослед, это понимала спина. А через новые семь дней он опять удалялся с облепленной хохотом спиной и хрустким песком на зубах.
Сочинял он тогда скоро, незадумчиво и плохо, как почти любой в телячьем безоглядном возрасте, когда единого солнечного блика предостаточно для бесшабашной радости, когда кочкою видится неодолимая гора, плевой лужей — океан, бессчетными — годы собственной жизни, а взъяренный Геркулес — глиняным Големом. Скверно писал, больно уж лихо, гладко и упоенно, и однажды старый авгур вместо известного «не пойдет» — обратился в пифию, ударился в прорицательство, где сыскалось место и цитатам из классиков, и умелым доказательствам, и увещеваньям, и раздражению, и соболезнованиям в смысле загубленного понапрасну времени. «Ладно», — сказал он авгуру. «Больше не приду — год», — посулил он с порога.
Ветер не убаюкался, бродит сонливо по двору, охапками таскает снег с места на место. Если через полчаса не затишится — к девяти не сладить, тогда нужда прикует к парадному — стынуть, выжидать, покуда гении, графоманы и таланты, чудаки да бессребреники станут поодиночке возвращаться — кто в ликовании, кто удрученный; от каждого предвидится в этих разах некий прок.
Намело невпроворот, лопата гнется от натуги, похрустывают несильные косточки. Пятьдесят два — не старость, да и не молодость, однако. В том ли, впрочем, суть… Про себя он ведает доподлинно: жить осталось ему год, ну два. И не болести, не износ тела причиной, а душевная исчерпанность. Страху не видит в том нимало: пожил, отжил, отойдет, как и всякий. Чем скорее — тем лучше, хватит обременять собою землю, и без того иззабоченную вдосталь.
Гудкой пешнею скалывает стылую мочу. Ну и люди — орошают крыльцо, а сортир — эвон, рядышком. Да еще какой — ампирный, с колоннами не то ионического, не то дорического ордера, с полукруглыми ступенями под мрамор. Взлет архитектурной мысли конца сороковых годов двадцатого столетия. Великая новостройка.
Шедевр неведомого зодчего изнутри озаряется, это приволокся на истоптанных шагалках Аверьяныч, коллега, сейчас вылезет из памятника эпохи, кликнет на перекур, на изначальный обмен мнениями. Пора и закурить, оно верно.
— Хорошо ли ночевал, Федосей Прокофьич? — каждоутрешними словами ведет зачин смотритель зодческого уникума.
— Обыкновенно, старина, — отлукавливается Федосей. — У тебя найдется, слушай?
— Зайди, — отлукавливается и тот. — Погрей телу в духмяном пару.
В закутке у Аверьяныча — прелестный ажур. Сияет кафель, изукрашенный переводными картинками младенческого свойства, блестят влажные метлахские плитки, чистая клеенка на столе, булькает чайник-торопыга. Выстроены по ранжиру щетки, палки с намотанными ветошками. На полке припасены флакон одеколону, пульверизатор, веничек-опахалка, гуталин, бархотка, жестяной короб для безгрешной мзды. Шурша, вертится вентилятор, но все равно густо воняет аммиаком, прелыми опилками, тряпьем.
— Говнецом у тебя попахивает, друг мой, — говорит Федосей Прокофьевич. — Да-с, говнецом.
— Не пекарня, не пирогами же… Почаще заглядывай, дак и принюхаешься, — советует Аверьяныч. — И мне-то поперву тошно было, а в теперешние времена атрофировался нюх. А говном — так оно везде несет, смотря только что каким.
— Атрофировался, говоришь… Ученый стал, времени у тебя лишнего много, производственная нагрузка твоя неполная, вот в райкомхоз стукну, он тебе по совместительству и дамское отделение вручит, книжками поменьше баловаться будешь. Чтенье, брат, к добру не приводит, от него, замечено, иные умней делаются… Хватит лясы-балясы вытворять, гони запас.
— Есть немного, — признается Аверьяныч. — Поправим шаткое разновесье и силы для подвигов укрепим.
Федосей Прокофьевич трясет мятую фляжку, на звук определяет!
— Полтораста. Шут с ним, скоро добавим.
— Тебе хорошо, — Аверьяныч завидует. — Твоя работа улошная, на виду, а мне тут киснуть в одиночку.
— Не беднись, не беднись, — укоряет Федосей Прокофьевич. — Звонкой монетой в лапу берешь, а я только натурой. Ну вздрогнули…
Закусывают утомленной, с ростком луковицей, молча дымят.
— Опять полночи будешь сочинять? — интересуется Аверьяныч. — На хрен тебе, ведь на любую руку мастак, шел бы водопроводчиком вон в контору, побольше навару бы имел.
— Навару-то побольше, — соглашается Федосей Прокофьевич. — Только, брат, литература — она вроде водочки, уж кто приник, тот не отстанет…
Глядит на прыткие ходики с кошачьей мордахой и шастающими при движении маятника глазами.
— Ишь, восемь… Открывай дворец, лорд-хранитель общественной сральни. А я пошел очеловечивать себя трудом.
— Заходь, — приглашает Аверьяныч. — Вот как ладно потолковали. Приятно.
Зыбкий сумрак не истаял еще, но почти все окна светятся, и на дорожках, заново припорошенных, видны первые следы, и свежие окурки валяются обочь. Федосей Прокофьевич их сгребает в совок и — себе в утеху — брюзжит.
Охаживает метлою главную магистраль — скоро прошествует непосредственное начальство — и при этом косится на окошко дворницкой. Оно мутно желтеет и, кажется, несильно сочится паром. Таниной тени Федосей Прокофьевич не видит, значит, жена сидит в драном кресле, утеплив себя одеялом, и либо читает, либо подперла щеки ладонями, думает и плачет — он ведь знает, как часто плачет Таня, оставаясь одна.
Сердце просится к ней, глаза, руки, все просится к Тане, однако уходить нельзя — надобно покончить со служебной канителью и выпить не меньше трехсот граммов, иначе до следующих, вечерних сумерек тоска задушит его, измотает, остервенит, а приняв дозу, он станет писать — печально и трудно — и лишь после второй приборки, может, налакается окончательно и будет за полночь сидеть в кухоньке-трапезной, размышлять о том, что мает его постоянно. Он ляжет поздно, и ему приснится рассказ — удивительный своей прозрачностью, простотой, точностью языка, изрядно лучше тех, что написаны, право, многие недурно. Рассказ приснится и забудется мигом, едва откроет глаза, чтобы взять загодя скрученную цигарку. Сколько раз велел себе — у изголовья класть карандаш, бумагу, электрический фонарик, записывать пробудившись. Но рассказы улетучивались и не вспоминались, на их место приходили другие, чтобы тоже выветриться, кануть не родившись.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: