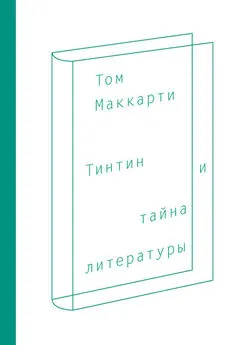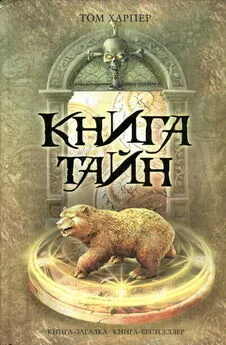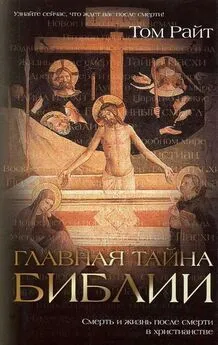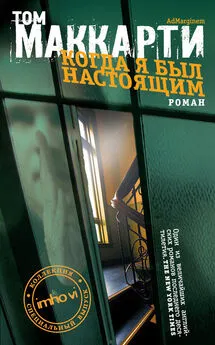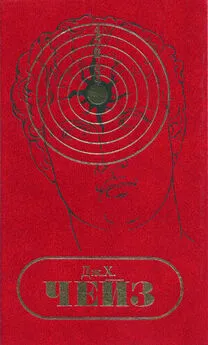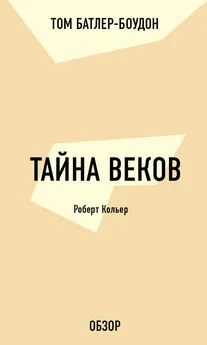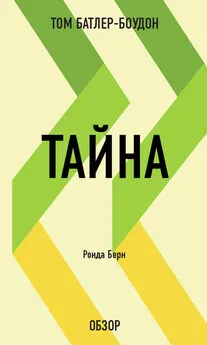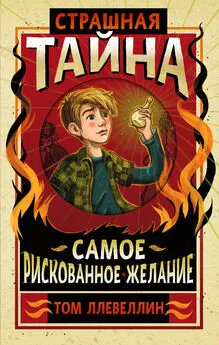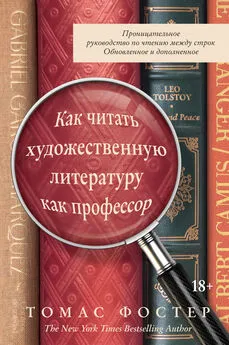Том Маккарти - Тинтин и тайна литературы
- Название:Тинтин и тайна литературы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Ад маргинем»fae21566-f8a3-102b-99a2-0288a49f2f10
- Год:2013
- Город:М.:
- ISBN:978-5-91103-144-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Том Маккарти - Тинтин и тайна литературы краткое содержание
Эссе современного британского художника и писателя Тома Маккарти посвящено культовому циклу комиксов «Приключения Тинтина». Вчитываясь в тексты, героев и рисунки бельгийского художника Эрже, придумавшего в 1929 году неунывающего репортера с хохолком, Маккарти пытается найти ответ на вопрос, что такое литературный вымысел и как функционирует современное искусство в условиях множественных медиа. Блистательное расследование психологии творчества в двадцатом веке от одного из активных арт-деятелей века двадцать первого.
Том Маккарти (1969) – художник, критик и писатель. Автор трех романов, в том числе «Remainder» (русский перевод «Когда я был настоящим») и «С» (шорт-лист премии Man Booker Prize 2010), нескольких инсталляций, часть из которых находится в постоянной коллекции британского Arts Council, генеральный секретарь полувымышленного арт-объединения «Международное Общество Некронавтов» (INS). В качестве приглашенного преподавателя читал лекции в Central Saint Martins School of Art, the Royal College of Art, London Consortium и Columbia University.
Тинтин и тайна литературы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Дюпон и Дюпонн падают то и дело: за борт в море, с железнодорожных перронов, даже в больничных палатах. А если и не падают, то что-нибудь падает им на голову: обваливается потолок вместе с люстрами и штукатуркой. На борту ракеты Хэддок называет сыщиков «клоунами» – классическими клоунами того типа, к которому относятся диснеевский «Ученик чародея», слуга Вагнер в «Докторе Фаусте» Марло и дворецкий Фейс в «Алхимике» Бена Джонсона. Это незадачливые неучи, которые шляются без присмотра по лабораториям великих ученых и балуются с чужим научным оборудованием. В финальной сцене в пустыне («Край черного золота») Дюпон и Дюпонн находят таблетки, которыми Мюллер обрабатывал бензин, и съедают их. Таблетки вызывают у сыщиков отрыжку и бесконтрольный рост волос. В «Пункте назначения – Луна» сыщики крадутся по машинному залу, пугаются рентгеновского аппарата и внушают себе, что по заводу Спроджа бродит злокозненный скелет; обнаружив в отделе остеологии другой скелет, сыщики дрожащими руками целятся в него из пистолетов, арестовывают его, заковывают в наручники и увозят на тележке, чтобы допросить. Этот эпизод не исчерпывается фарсом: есть отчетливое ощущение, будто Эрже, заставив сыщиков преследовать скелет, как бы отрядил их арестовать саму Смерть. Пожалуй, это разоблачает истинную природу другого объекта погони сыщиков – Тинтина. Тинтин, хоть и вечно находится на волоске от смерти, многократно объявленный погибшим и даже несколько раз погребенный, никогда не задерживается на том свете – как-то не складывается. Тинтин остается жив, даже когда получает пулю в лоб, или ныряет в водопад, или падает с обрыва, или прыгает с самолета без парашюта. В этом можно усмотреть нечто героическое. Но можно и нечто патологическое, смотря с какой стороны взглянуть.
Антитеза жизни – что это: искусственность, смерть или зомби? В начале «Сарразина» дряхлый Замбинелла, ковыляющий среди гостей семейства де Ланти, описывается в бергсоновских терминах: «непрочный механизм», «искусственное существо», движения которого совершаются «при помощи какого-то незаметного искусственного приспособления». Согласно Барту, Замбинелла стоит по ту сторону жизни и смерти, поскольку стоит по ту сторону желания. «Ужаснее всего не смерть, – пишет Барт, содрогаясь, – ужаснее всего нарушение границы между жизнью и смертью». Возможно, потому-то Дюпон и Дюпонн всякий раз терпят фиаско в погонях – за скелетом ли или за Тинтином. Они не могут уразуметь, что Смерть бессмертна.
iii
В трагедиях смерть придает происходящему глубокий смысл. Герой или героиня трагедии устремляется в объятия смерти, чтобы жизнь прошла не зря, чтобы задним числом придать своей жизни исключительное значение. В комедии такое невозможно. Как отмечает Дейл, кот Сильвестр и койот Уайли падают с обрывов и подрываются на бомбах, но никогда не умирают. Но не подумайте, будто комедия не придает действию смысл. В комедии смысл иной, причем его основа, как ни парадоксально, – нечто более печальное и мучительное, чем у смысла трагедии.
Имеет ли смысл комедии какое-то специальное название? Да. Это ирония. На взгляд Бодлера, единственное отличие художника и философа от прочих людей – способность смеяться над собой. Художники и философы способны абстрагироваться от себя, быть не только падающими, но и зрителями собственного падения. У Бодлера это именуется термином dédoublement ( фр. «раздвоение»). Если Бергсона смешило удвоение вещей или людей, то Бодлер считает, что комедия позволяет (правда, лишь немногим избранным) предаться самоудвоению, самоумножению. Но есть одна загвоздка: едва человек удваивается или умножается, то, совсем как фетиш у Эрже, становится подделкой. Итак, дар самосознания, которым наделены художник и философ, всего лишь заставляет их осознать собственную фальшь.
Осознание своей фальши может иметь катастрофические последствия. Де Ман пишет: «В момент, когда ставится под вопрос чистота или аутентичность нашего ощущения бытия в мире, запускается далеко не безобидный процесс. Он может начаться, как бездумная забава с разлохмаченной каемкой, но скоро вся ткань личности будет распущена и распадется». Итак, смущенный смех философа и поэта – грохот их собственного распада, а заодно и сознания этого распада. Суть того, что де Ман называет «языком иронии», – еще одна разновидность двойного озвучания. Язык иронии, отмечает де Ман, расщепляет личность на две личности, одна из которых фальшива, а другая говорит об этой фальши. При этом акт говорения не влечет за собой возвращения к подлинности, «ибо распознавать фальшь – не то же самое, что быть настоящим». Таково метафизическое состояние человека во власти иронии: сколько бы он ни умолял спасти его из этого плена, помощь не приходит, и человек вынужден в утешение себе «припоминать» (или выдумывать) эру первобытной невинности, когда он был настоящим. И, разумеется, этот акт тоже распахивает настежь время. «Ирония, – заявляет де Ман, учитывая вышеописанное обстоятельство, – разделяет поток эмпирического опыта времени на прошлое, которое есть чистая мистификация, и будущее, над которым вечно витает угроза соскользнуть назад в фальшь. Ирония может распознавать фальшь, но не способна ее преодолеть. Она может лишь вновь констатировать фальшь и повторять это на все более сознательном уровне».
Не таково ли положение капитана, его опыт отношений со временем? Он то и дело становится пленником каких-то фальшивых миров. В «Семи хрустальных шарах» среди всей бутафории за кулисами мюзик-холла дверь, ведущая в «реальность» (естественно, через «бар»), оказывается такой же фальшивкой, как и прочие декорации, и вынуждает капитана наткнуться на глухую стену. В «Тинтине и пикаросах» выход из фальшивого мира гостиничного номера тоже загорожен. Нечто в духе Кафки или Беккета сквозит в том, как Хэддок каждый день дожидается обещанной встречи с генералом, чтобы наконец-то «объясниться», реабилитировать себя и вернуться в мир ясности и истины. На деле встреча даже не планировалась, и надежды на появление генерала не более обоснованны, чем на появление Годо. В номере за Хэддоком следят через зеркала с прозрачной изнанкой. В «Деле Лакмуса» Хэддок задумчиво смотрится в зеркало в собственной ванной. Вдруг в верхнем углу появляется маленькая трещинка (де Ман сказал бы, что «разлохматилась каемка»), и тут же зеркало раскалывается целиком, падает на пол; затем начинает рушиться весь мир Муленсара, этот сертификат поддельности Хэддока (конечно, этот сертификат не всякий сумеет прочесть). «Дзынь, бряк, шмяк».
Итак, в разных контекстах мы увидели, что капитана Хэддока вновь и вновь ставят перед фактом его фальшивости. По мере того как развивается цикл, этот факт констатируется все более целенаправленно. Вряд ли сам Хэддок когда-нибудь выразит мысль о своей неподлинности пространно, но ситуации становятся все более интроспективными: в «Деле Лакмуса», «Изумруде Кастафиоре» и «Тинтине и пикаросах» журналисты приезжают писать о фальши Хэддока всякий раз, когда он оказывается дома. Наконец, та же ситуация разыгрывается в сфере искусства – среде, более других склонной к самокопанию. В «Тинтине и Альфа-арте» мы наблюдаем, как капитан растерянно созерцает гигантскую букву Х, которую ему всучили в арт-галерее («Х – потому что “Хэддок”, понимаешь?» – говорит он Тинтину), – искусственный знак, за которым укрыта целая тайная индустрия подлогов. Фактически то, на что смотрит капитан, – или, точнее, то, на что смотрим мы, наблюдая, как он на это смотрит (таков двойной язык иронии, позаимствованный Эрже), – его собственное положение в мире.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: