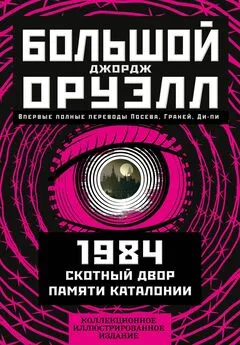Джордж Оруэлл - 1984. Скотный двор. Эссе
- Название:1984. Скотный двор. Эссе
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:АСТ
- Год:2017
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-105071-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Джордж Оруэлл - 1984. Скотный двор. Эссе краткое содержание
«Скотный двор» — притча, полная юмора и сарказма. Может ли скромная ферма стать символом тоталитарного общества? Конечно, да. Но… каким увидят это общество его «граждане» — животные, обреченные на бойню?
В книгу включены также эссе разных лет — «Литература и тоталитаризм», «Писатели и Левиафан», «Заметки о национализме» и другие.
1984. Скотный двор. Эссе - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Не имея лица, тоталитаризм придумывает себе маски. Папа Док, дядюшка Пино, Иосиф Прекрасный… есть что-то трогательное в этом желании понравиться своему народу. А народ любит маскарад и расплачивается жизнью за участие в жестокой драме.
Чью драму имел в виду Дж. Оруэлл, сочиняя в 1945 году свою сказку?
Кровавые «свинства», творящиеся на ферме, и сама терминология (животные комитеты, собрания, обращение «товарищ») не оставляют на этот счет сомнений.
Поэтому обычный для переводчика вопрос, в какую среду, бытовую и языковую, погружать текст, в данном случае не возникал. Время и место указал автор.
Зато он задал другие задачки.
Начать с названия. «Господская» ферма превращается в «животную», а когда свиньи сами становятся господами (при этом оставаясь животными!), ферме возвращается ее исконное название. Существенно и то, что «при перемене мест слагаемых сумма не меняется»: и при старой власти, и при новой жизнь у животных скотская. Так появились названия «Райский уголок» и «Скотский уголок», звучащие в равной степени пародийно.
А вот как явился на свет божий Цицерон… У Оруэлла кабанчик имеет кличку Снежный Ком, что «не есть хорошо» по-русски и по своей значимости не ставит персонаж вровень с его соперником Наполеоном. Переводчик выстроил довольно сложную цепочку: снежок — шарик — горошина, или «цицеро» (по-латыни), — Цицерон. Получилась достойная пара — Наполеон и Цицерон, к тому же последний действительно оратор, вернее, краснобай.
Но довольно примеров. Ограничусь рядом общих соображений.
1. Перевод произведений игровых по своей природе невозможен без внутренней свободы. Лучшая, на мой взгляд, русская «Алиса» — заходеровская.
Кстати, она очень близка к подлиннику, и пусть никого не вводит в заблуждение словечко «пересказ» — оно для церберов из Министерства обороны культуры.
2. Перевод есть зазеркальное отражение текста. Переводятся не слова, а образы, оживают не фразы, а интонации.
3. Перевод — это всегда новое качество, в чем без труда каждый может убедиться, поставив рядом четырех (на сегодняшний день) русских Оруэллов (речь только об одной повести). Порадуемся за читателя, у которого есть выбор.
4. Всякая «вольность» имеет границы допустимого. Переводческий произвол (неоправданный) поголовно наказуем.
Наш читатель, вероятно, самый обидчивый читатель в мире. Поэтому тех, кто заранее готов поджать губы, оскорбившись за «наши идеалы», я хочу сразу успокоить: сатира Оруэлла направлена не против «наших», правильнее сказать, общечеловеческих идеалов, а против глумления над ними, открытого или завуалированного, против социальной демагогии и политического авантюризма, в чем (не будем тянуть на себя всю простыню) преуспели в XX веке не одни мы. И современных луддитов, кроме нас, повсюду хватает.
Диктатура в любой своей разновидности пробуждает звериные инстинкты.
Тоталитаризм универсален. Все маски на одно лицо.
Все же хочется остаться немножко наивным. Хочется верить, что эта бесхитростная сказка, в ряду более серьезных вещей, помогает нам понять, что, прежде чем радостно восклицать: «Весь мир насилья мы разрушим до основанья…», не худо бы самих себя спросить: «…а зачем?»
Сергей ТаскЭссе
Литература и тоталитаризм
Перевод А. Зверева
Начиная свое первое выступление, я говорил, что наше время не назовешь веком критики. Это эпоха причастности, а не отстраненности, и поэтому стало так трудно признать литературные достоинства за книгой, содержащей мысли, с которыми вы не согласны. В литературу хлынула политика в самом широком смысле этого слова, она захватила литературу так, как при нормальных условиях не бывает, — вот отчего мы теперь столь обостренно чувствуем разлад между индивидуальным и общим, хотя он наблюдался всегда. Стоит только задуматься, до чего сложно сегодняшнему критику сохранить честную беспристрастность, и станет понятно, какие именно опасности ожидают литературу в самом близком будущем.
Время, в которое мы живем, угрожает покончить с независимой личностью, или, вернее, с иллюзиями, будто она независима. Меж тем, толкуя о литературе, а уж тем паче о критике, мы не задумываясь исходим из того, что личность вполне независима. Вся современная европейская литература — то есть та, которая создавалась последние четыре века, — стоит на принципах честности, или, если хотите, на шекспировской максиме: «Своей природе верен будь». Первое наше требование к писателю — не лгать, писать то, что он действительно думает и чувствует. Худшее, что можно сказать о произведении искусства, — оно фальшиво. К критике это относится даже больше, чем непосредственно к литературе, где не так уж досаждает некое позерство, манерничанье, даже откровенное лукавство, если только писатель не лжет в самом главном. Современная литература по самому своему существу — творение личности. Либо она правдиво передает мысли и чувства личности, либо же ничего не стоит.
Как я уже сказал, это для нас само собой разумеется, но едва стоит нам это произнести, как осознаешь, какая над литературой нависла угроза. Ведь мы живем в эпоху тоталитарных государств, которые не предоставляют, а возможно, и не способны предоставить личности никакой свободы. Упомянув о тоталитаризме, сразу вспоминают Германию, Россию, Италию, но, думаю, надо быть готовым к тому, что это явление сделается всемирным. Очевидно, что времена свободного капитализма идут к концу, и то в одной стране, то в другой он сменяется централизованной экономикой, которую можно характеризовать как социализм или как государственный капитализм — выбор за вами. А значит, иссякает и экономическая свобода личности, то есть в большой степени подрывается ее свобода поступать как ей хочется, свободно выбирая себе профессию, свободно передвигаясь в любом направлении по всей планете. До недавней поры мы еще не предвидели последствий подобных перемен. Никто не понимал как следует, что исчезновение экономической свободы скажется на свободе интеллектуальной. Социализм обычно представляли себе как некую либеральную систему, одухотворенную высокой моралью. Государство возьмет на себя заботы о вашем экономическом благоденствии, освободив от страха перед нищетой, безработицей и т. д., но ему не будет никакой необходимости вмешиваться в вашу частную интеллектуальную жизнь. Искусство будет процветать точно так же, как в эпоху либерального капитализма, и даже еще нагляднее, поскольку художник более не будет испытывать экономического принуждения.
Опыт заставляет нас признать, что эти представления пошли прахом. Тоталитаризм посягнул на свободу мысли так, как никогда прежде не могли и вообразить. Важно отдавать себе отчет в том, что его контроль над мыслью преследует цели не только запретительные, но и конструктивные. Не просто возбраняется выражать — даже допускать — определенные мысли, но диктуется, что именно надлежит думать; создается идеология, которая должна быть принята личностью, норовят управлять ее эмоциями и навязывать ей образ поведения. Она изолируется, насколько возможно, от внешнего мира, чтобы замкнуть ее в искусственной среде, лишив возможности сопоставлений. Тоталитарное государство обязательно старается контролировать мысли и чувства своих подданных по меньшей мере столь же действенно, как контролирует их поступки.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
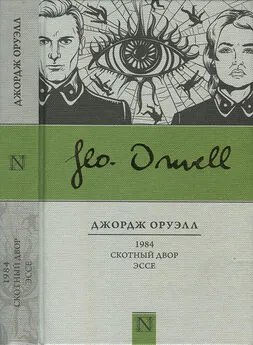

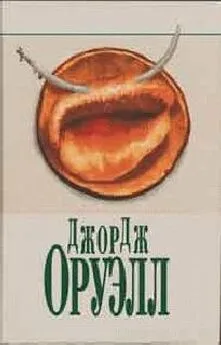
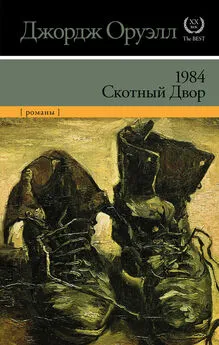
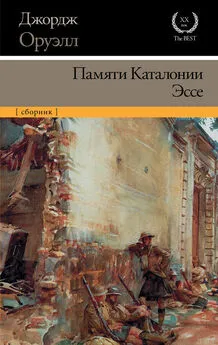
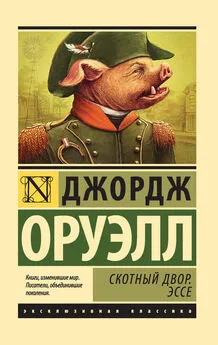
![Джордж Оруэлл - Скотный двор. Эссе [сборник litres]](/books/1143542/dzhordzh-oruell-skotnyj-dvor-esse-sbornik-litres.webp)