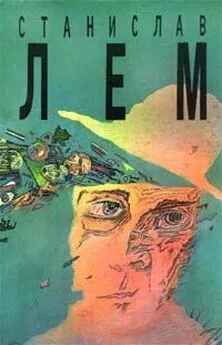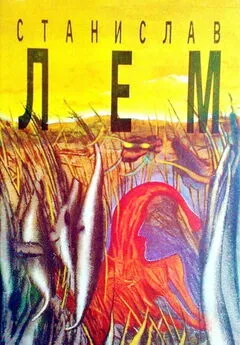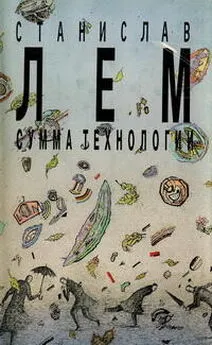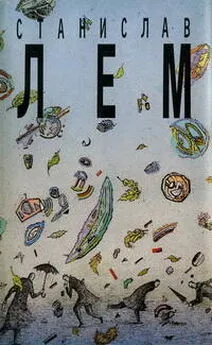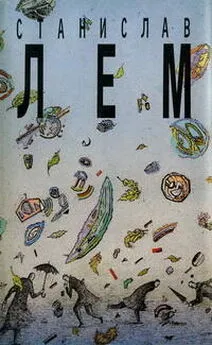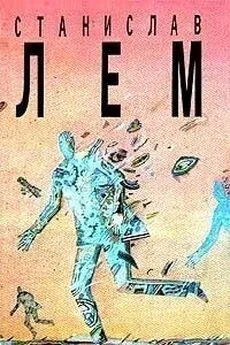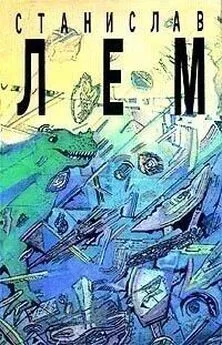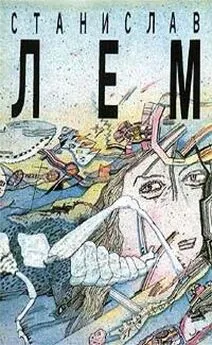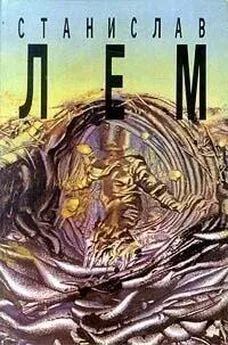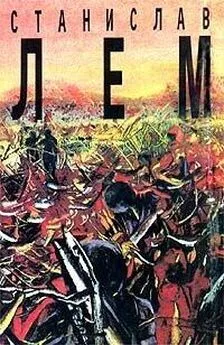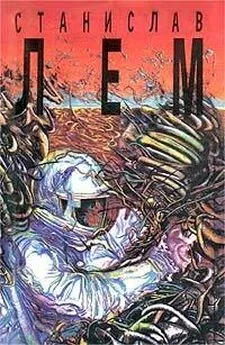Станислав Лем - Собрание сочинений в 10 томах. Том 9. Мир на Земле. Глас Господа. Верный робот
- Название:Собрание сочинений в 10 томах. Том 9. Мир на Земле. Глас Господа. Верный робот
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Текст
- Год:1994
- Город:М.
- ISBN:5-87106-062-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Станислав Лем - Собрание сочинений в 10 томах. Том 9. Мир на Земле. Глас Господа. Верный робот краткое содержание
Собрание сочинений в 10 томах. Том 9. Мир на Земле. Глас Господа. Верный робот - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Мысль о Создателе, который попросту забавлялся, весьма привлекательна, но тут мы входим в порочный круг: мы готовы счесть Творца злонамеренным не потому, что он сотворил нас такими, а потому, что сами мы злонамеренны. А ведь если человек так ничтожен, так неприметен перед лицом Мироздания, как об этом говорит нам наука, то манихейский миф — очевидная несообразность. Скажу иначе: если мир действительно сотворен (чего я, впрочем, не допускаю), необходимый для этого уровень знаний несовместим с туповатыми шутками. Ибо — в этом, собственно, и состоит мое кредо — нет и не может быть идеально мудрого зла. Разум говорит мне, что Творец не может быть мелким пакостником, иллюзионистом, который подсмеивается над тем, что творит. То, что мы принимаем за злонамеренность, — возможно, обычный просчет, ошибка; но тоща мы приходим к еще не существующей теологии ущербных божеств. А область их созидательной деятельности — та же самая, в которой творю я сам, то есть вероятностная статистика.
Любой ребенок бессознательно совершает открытия, из которых выросли статистические вселенные Гиббса и Больцмана; действительность предстает перед ним океаном возможностей, которые возникают и обособляются очень легко, почти самопроизвольно. Ребенка окружает множество виртуальных миров, ему совершенно чужд космос Паскаля — этот окоченелый, размеренный, движущийся, как часовой механизм, труп. Позже, в зрелые годы, первоначальное богатство выбора уступает место застывшему порядку вещей. Если мое изображение детства покажется односторонним (хотя бы потому, что своей внутренней свободой ребенок обязан неведению, а не выбору), то ведь и любое изображение односторонне.
От первоначального богатства воображения я унаследовал кое-какие остатки — устойчивое неприятие действительности, похожее скорее на гнев, чем на отрешенность. Уже мой смех был протестом едва ли не более действенным, чем самоубийство. Я признаюсь в этом теперь, в шестьдесят два года, а математика была лишь позднейшим следствием такого взгляда на мир. Она была моим вторым дезертирством.
Я выражаюсь метафорически, — но прошу меня выслушать. Я предал умиравшую мать, то есть всех людей сразу: засмеявшись, я сделал выбор в пользу силы более могущественной, чем они, хотя и омерзительной, потому что не видел иного выхода. Но потом я узнал, что невидимого противника, который вездесущ и который свил себе гнездо в нас самих, тоже можно предать, хотя бы отчасти, поскольку математика не зависит от реального мира.
Время показало мне, что я ошибся еще раз. По-настоящему выбрать смерть против жизни и математику против действительности нельзя. Такой выбор, будь он настоящим, означал бы самоуничтожение. Что бы мы ни делали, мы не можем порвать с действительностью, и опыт подсказывает, что математика тоже не идеальное убежище, потому что ее обитель — язык. А это информационное растение пустило корни и в мире, и в человеке. Такие мысли с юности посещали меня, хотя тогда я еще не мог изложить их на языке доказательств.
В математике я искал того, что ушло вместе с детством, множественности миров, возможности отрешиться от навязанного нам мира, отрешиться с такой легкостью, словно нет в нем той силы, что прячется и в нас самих. Но затем, подобно всякому математику, я с изумлением убеждался, до чего потрясающе неожиданна и неслыханно многостороння эта деятельность, вначале похожая на игру. Вступая в нее, ты гордо, открыто и безоговорочно обособляешь свою мысль от действительности и с помощью произвольных постулатов, категоричных, словно акт творения, замыкаешься в терминологических границах, призванных изолировать тебя от суетного скопища, в котором приходится жить.
Но именно этот отказ, этот полный разрыв и раскрывает нам сердцевину явлений; побег оборачивается завоеванием, дезертирство — постижением, а разрыв — примирением. Мы с удивлением замечаем, что бегство было мнимым и мы вернулись к тому, от чего убегали. Враг, сбросив старую кожу, предстает перед нами союзником, мы удостаиваемся очищения, мир молчаливо дает нам понять, что преодолеть его можно лишь с его помощью. Так усмиряется страх, оборачиваясь восхищением, — в этом необыкновенном убежище, из глубин которого открывается выход в единое пространство мироздания.
Математика не выражает, не раскрывает человека так, как любом другой вид деятельности: степень развоплощения, достигаемая благодаря ей, несравнима ни с чем. Интересующихся отсылаю к моим работам. Здесь скажу лишь, что мироздание запечатлело свои законы в человеческом языке при самом его зарождении; математика дремлет в каждом наречии, ее можно открыть, но не изобрести.
То, что в ней составляет крону, невозможно отделить от корней; ведь возникла она не за три или восемь последних столетий, а в течение долгих тысячелетий языковой эволюции, на поле упорной борьбы человека с его окружением. Она возникает из _между_-людья и _между_-речья. Язык настолько же мудрее любого из нас, насколько наше тело лучше нас самих ориентируется во всех деталях протекающего в нем жизненного процесса. Мы еще не исчерпали наследия этих двух эволюции — живой материи и информационной материи языка, — а уже мечтаем выйти за их пределы. Возможно, все сказанное здесь — заурядное философствование, но этого никак не скажешь о моих доказательствах в пользу языкового происхождения математических понятий (которые, стало быть, не являлись лишь следствием перечислимости предметов и изобретательности ума).
Причины, по которым я стал математиком, наверно, сложны, но одной из главных были мои способности, без которых я добился бы не больших успехов, чем горбун в легкой атлетике. Не знаю, сыграл ли роль в той истории, которую я собираюсь рассказать, мой характер — а вовсе не способности, но не исключаю и этого: масштаб событий позволяет мне отрешиться и от гордости, и от застенчивости.
Мемуаристы обычно решаются на предельную искренность, если считают, что могут рассказать о себе нечто неслыханно важное. Я, напротив, искренен потому, что моя личность в данном случае абсолютно несущественна; иначе говоря, к откровенности, вообще-то несносной, меня побуждает только неумение различить, где кончается статистический каприз, определивший склад моей личности, и где начинается видовая закономерность.
В науке существуют реальные знания и знания, создающие духовный комфорт; они необязательно совпадают. В науках о человеке различение двух этих видов почти невозможно. Мы ничего не знаем так скверно, как самих себя, — не потому ли, что, пытаясь узнать, и узнать достоверно, что именно сформировало человека, мы заранее исключаем возможность сочетания глубочайшей необходимости с нелепейшими случайностями?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: