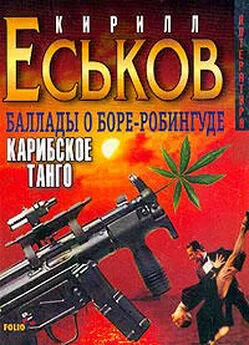Кирилл Еськов - Японский оксюморон
- Название:Японский оксюморон
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Кирилл Еськов - Японский оксюморон краткое содержание
Японский оксюморон - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
И еще одно. При всем многообразии жанров и направлений, демонстрируемых китайской литературой, в ней нет детектива; я имею в виду - детектива в строгом понимании (складывание головоломки: исходно ограниченный круг подозреваемых, у всех мотив, у всех возможность, etc.) Есть превосходные криминальные романы (к примеру, "Трое храбрых, пятеро справедливых" Ши Юй-куня), а вот чтобы создать на богатейшей китайской фактуре классический детектив, понадобился американский китаист Ван-Гулик (и подхвативший это знамя "голандско"-советский китаист Ван-Зайчик). Напомню, что в советской литературе за всю ее историю тоже не было создано ни единого детектива - при том, что были очень неплохие кримальные романы ("Место встречи изменить нельзя") и шпионские романы ("Момент истины", "Где ты был, Одиссей?"). Причина тут, похоже, единая: для настоящего детектива необходим герой-одиночка - вещь, равно немыслимая как в Китае, так и в СССР. А вот в японской литературе детектив есть! Да не просто есть: японская школа детектива, берущая начало от "Чудовища во мраке" - одна из авторитетнейших в мире (доведись мне лично формировать топ-двадцатку лучших детективщиков так Сейте Мацумото вошел бы в нее без вопросов).
...Короче говоря - в Японии очень странная литература; "странная" чтоб не сказать "противоестественная для того социокультурного контекста, в коем она возникла". И если поэзия еще хоть как-то соотносится с исходной для нее китайской литературной традицией, то проза - это ва-аще! "Я не папина, я не мамина, я на улице росла, меня курица снесла"...
Однако и история Японии (будучи рассмотрена под соответствующим углом зрения) производит впечатление ничуть не менее странное, чем ее литература.
Японская история как романтический сюжет
Мне не хотелось бы здесь надолго убредать в мир архетипов и эгрегоров, лазарчуковских "големов" и переслегинских "динамических сюжетов": будучи сугубым рационалом, я чувствую себя среди всех этих "квазиживых информационных объектов, модифицирующих поведение людей" как-то неуютно. Но не мною, опять-таки, первым замечено, что история Японии (в сравнении с историями иных стран) необыкновенно сюжетна; в некотором смысле, она вся являет собою "динамический сюжет", более всего напоминающий рыцарский роман. Самое же любопытное, что множество сюжетных ходов этого романа кажутся впрямую списанными у Европы - причем не из "настоящей" истории, а из исторической беллетристики.
Впервые, пожалуй, это пришло мне в голову при знакомстве с историей христианского восстания в Симабара в 1638 году. "Христианское восстание" это, согласитесь, и само-то по себе звучит неслабо, однако дальше начинаются уже форменные чудеса. Шестнадцатилетний "юноша из хорошей семьи", командующий сорокатысячной крестьянской армией, и самураи, идущие в свой последний, безнадежный бой с правительственными войсками под хоруговью с португальской вышивкой "LLOVADO SEIA O SANCTISSIMO SACRAMENTO (Да славится наисвятейшее таинство!)" - такое ведь фиг выдумаешь, сочиняя "альтернативку" на японские темы...
Население Симабара, как и всей западной части острова Кюсю, было по преимуществу христианским: открытый для европейцев порт Нагасаки издавна служил главным центром прозелитизма на Островах; христианами были и многие из тамошних дайме. Так что когда сегун Токугава взялся за искоренение подрывной иноземной веры всерьез (правитель Симабара, к примеру, имел обыкновение медленно сваривавать христиан в кипящих вулканических источниках Ундзэн) - полыхнуло так, что мало не показалось. Среди старост деревень (сея) было много выходцев из военного сословия, которые раньше состояли на службе у католических дайме и сражались в Корее под началом знаменитого маршала-христианина Кониси; именно они и возглавили сопротивление. Как раз из семьи такого самурая-христианина, ветерана Кониси, ставшего потом фермером, и происходил духовный лидер восстания Амакуса Сиро - "Японский мессия"; сами восставшие, впрочем, звали его просто дэусу, переиначив на японский манер латинское Deus. Как бы то ни было, юноша в возрасте "два раза по восемь лет" (такую формулировку употребляли, дабы выполнялось одно из пророчеств) бестрепетно рулил на военных советах поседевшими в битвах самураями, демонстрируя попутно весь набор спецэффектов, приличествующих святому (разговоры с птицами, садящимися к нему на ладонь, возжигающиеся в небе над ним кресты, etc).
Лишь после того, как восставшие разбили и войска местных правителей Мацукуры и Тэрадзавы, и высланную против них армию генерала Итакуры, центральное правительство оценило, наконец серьезность ситуации; дальше началось неизбежное - "Мятеж не может кончиться удачей..." ...Остатки христиан - тридцать семь тысяч - нашли убежище в заброшенной приморской крепости Хара; мужчин, способных сражаться, было около десяти тысяч, причем профессиональных военных среди них осталось не более двухсот, остальные же необученные и вооруженные чем попало крестьяне и рыбаки. Тем не менее, стотысячная (!) самурайская армия генерала Мацудайры (а это гораздо больше, чем было у Токугава в решающей битве при Сэкигахара в 1600) безуспешно осаждала замок почти четыре месяца. Даже решающий штурм затянулся до полного неприличия: полумертвые от голода крестьяне (Мацудайра отдал приказ о штурме лишь когда произвел вскрытие тел инсургентов, погибших при очередной вылазке, и убедился, что в желудках их нет ничего, кроме морских водорослей) двое суток отбивали непрерывные атаки "лучших профессиональных воинов своего времени"; а пока мужчины гибли на полуразрушенных древних стенах, женщины и дети совершали массовые самосожжения. Это обстоятельство, разумеется, развело их с родной Церковью (канонизировав в качестве мучеников несколько тысяч японских христиан, Ватикан отказал в этом всем защитникам крепости Хара), но снискало им неподдельное уважение со стороны врагов: "Для людей низкого звания (симодзимо) это поистине была смерть, достойная похвалы. Слова не могут выразить моего восхищения" (дайме Хосокава Тадатоси, участник штурма). Каковое восхищение, впрочем, ни в малейшей степени не помешало им произвести затем окончательное решение христианского вопроса.
Долго не мог я сообразить - что же мне эта история напоминает? откуда берется явственное ощущение "дежавю"? И тут вдруг всплыло откуда-то из глубин памяти жизнеописание некого голливудского сценариста не то режиссера, специализировавшегося в годы Холодной войны на "русской тематике": в его фильмах "комиссары в кожанках кидали под поезд Анну Каренину, а Гришка Распутин собственноручно душил гвардейским шарфом Льва Троцкого и возводил на престол польскую княжну Екатерину II"... Так вот - история восстания в Симабара и есть, если присмотреться, тот самый голливудский винегрет из классики европейского романтизма 19-го века: "Уленшпигель" и "Спартак" вперемешку с альбигойскими крестовыми походами и осадой Монсегюра, плюс, конечно же, Жанна д'Арк forever...
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: