Кэтрин Куртц - «Если», 1996 № 04
- Название:«Если», 1996 № 04
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:газета Московские новости, Издательский Дом Любимая книга
- Год:1996
- ISBN:0136-0140
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Кэтрин Куртц - «Если», 1996 № 04 краткое содержание
ТЕМАТИЧЕСКИЙ НОМЕР FANTASY
Содержание:
Кэтрин Куртц. МЕЧИ ПРОТИВ МАРЛУКА
Владимир Тихомиров. НА ЗАРЕ ВРЕМЕН
Роберт Артур. САТАНА И СЭМ ШЭЙ
Алла Малахова. КОНИ СКАЧУТ, МЧАТСЯ КОНИ
Глен Кук. ЗОЛОТЫЕ СЕРДЦА С ЧЕРВОТОЧИНКОЙ. Роман
Бредли Сайнор. МЕЛОЧИ ЖИЗНИ В ВОЛШЕБНОЙ СТРАНЕ
Роберт Шекли УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КАРМИЧЕСКИЙ БАНК.
СИСТЕМА КООРДИНАТ
«Если», 1996 № 04 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
На Стругацких была организована фронтальная атака в прессе, которая, скорее всего, служила прикрытием для выполнения «партийного поручения». Только слепой бы не обнаружил, что в черты недоразвитого феодализма авторы вкрапили черты другой эпохи. Из какой действительности взяты, допустим, штурмовики или Патриотическая школа, в которой пытливых юношей учат обожать высшее руководство и применять допросы третьей степени к врагам феодализма? А заговор лейб-знахарей-убийц? Могли ли такие намеки нравиться идеологическим надзирателям? Не исключено, что они разглядели — и, может быть, были правы — в романе картины не только прошлого, но и настоящего или даже будущего…
А вот «Понедельник начинается в субботу» (1965 г.) политических обвинений не вызвал, хотя и нашлись, конечно, деятели. которые повздыхали по судьбе опошленного-де фольклора. Однако в последнее время возникли разговоры, что Стругацкие искаженно нарисовали героев того времени.
Что ж, поговорим о героях того времени, отнеся к ним не только молодого программиста Сашу Привалова, но и собравшихся со всех концов света и из всех веков в северорусский городок чародеев и волшебников. При всем разноличии этот интернационал отмечен явственными советскими чертами. О, это высококвалифицированные маги! Они могут проходить сквозь стены, преуспели в дрессировке огнедышащих драконов, ловко управляются аж с нелинейной трансгрессией, но оказываются беспомощными перед Административной Системой в лице руководства Института чародейства и волшебства — НИИЧАВО. Штатные маги покорно подчиняются заму, дураку и бюрократу, стоят а очереди за получкой, принимают как должное неизбежность соблюдения множества нелепых инструкций и вынуждены терпеть в своей честной трудовой семье таких невежд, как профессор Выбегалло, хотя прекрасно знают ему цену. Видимо, есть силы, перед которыми пасует вся черная и белая магия. Образ этого лжеученого-демагога создавался тогда, когда его отчетливо просматриваемый прототип еще котировался среди власть предержащих.
Неважно, что сотрудники института заняты магическими разработками, по сути дела они обыкновенные «физики из ящика», настолько увлеченные своим делом, что выходные дни им кажутся досадной потерей времени. Таких же парней, но уже без всякой магии мы находим и в «Полдне. XXII век» и в «Далекой Радуге»…
Пришли новые времена, появилась новая генерация критиков. которые сочли своим долгом поставить неразумных шестидесятников на место, и в двух «толстых» журналах, ранее в упор не замечавших никакой фантастики, одновременно появились статьи, в сущности сомкнувшиеся с партийными разносами прошлых лет. хотя, на первый взгляд, они написаны с других позиций. Если раньше Стругацких уличали а недостаточной, что ли, коммунистичности, то ныне им ставят в вину чрезмерную коммунистичность и «совковость» — от концепций до мелочей. Так, в массовом бегстве сотрудников НИИЧАВО с новогоднего застолья критикесса из «Знамени» усмотрела черты некоего надрывного энтузиазма. Нечего, мол, восхищаться этими моральными уродами, бездуховными, безжалостными в своем научном рвении. Подумать только: они даже отдыхать толком не умеют!
Если отбросить прокурорский тон, то некоторые из этих характеристик подмечены верно. Да, царила тогда среди научной интеллигенции известная эйфория от захвативших дух перспектив научно-технической революции. В ее атмосфере гуманистические начала оказались несколько потесненными. Именно тогда родились известные строчки Бориса Слуцкого:
Что-то физики в почете.
Что-то лирики а загоне…
Именно тогда всерьез велись кажущиеся сейчас нелепыми (хотя, может, и безосновательно) дебаты о ветке сирени в космосе, о том, нужны ли инженеру Блок и Бетховен… И все-таки не росли эти ребята безнравственными и бездуховными: право же, это была не худшая российская генерация. Да, их нельзя было клещами вытянуть из лабораторий и с полигонов, но так ли уж это плохо — умение и желание самозабвенно трудиться? Между прочим, А. Д. Сахаров вышел из их среды.
А вовсю вихри враждебные разбушевались над «Сказкой о Тройке». И действительно, трудно вспомнить произведение, в котором наш родимый бюрократизм разделывался бы с такой хлесткостью, как в этой «Сказке…» Разве что «Теркин на том свете».
Со «Сказкой…» произошло редкостное даже по тем временам событие: из-за ее публикации в 1968 году был разогнан альманах «Ангара». Конечно, действия разгневанного начальства напоминали поступок персидского царя, который приказал высечь плетьми море. Но это сегодня легко иронизировать, а тогда входили в силу тяжелые для нашей общественной жизни годы, и воспринимались они без улыбок.
Сейчас-то мы понимаем, что в «Сказке…» Стругацкие нанесли удар по самой системе. Но а те годы, боюсь, даже авторам представлялось, что они сражаются лишь с ее извращениями. Что до реакции партийных органов на публикацию «Сказки…», то она представляется мне, как это ни покажется странным, адекватной. Товарищи из иркутского обкома, в чьем ведении была «Ангара», распознали в кривых зеркалах собственные отражения и переполошились.
В их докладной наличествует весь терминологический набор так называемой партийной критики. «Авторы придали злу самодовлеющий характер, отделили недостатки от прогрессивных общественных сил, успешно (конечно же! — В.Р.) преодолевающих их. В результате частное и преходящее зло приобрело всеобщность, вечность, фетальную неизбежность. Повесть стала «пасквилем»: «идейно ущербная», «антинародна и аполитична», «глумятся», «охаивание», «авторы представляют советский народ утратившим коммунистические идеалы».. (Стоит ли сейчас доказывать, что даже сатирический гнев «Сказки…» имел в основании позитивные идеалы, а не маниакальное стремление охаять строителей коммунизма?)
Помню, Аркадий Стругацкий рассказывал мне, как, устав жить в обстановке открытого и скрытого недоброжелательства, он, может быть, с изрядной долей наивности напросился на разговор к секретарю ЦК П. Н. Демичеву. «Аркадий Натанович, — было сказано ему, — ищите врагов пониже, в Центральном Комитете их нет». Вряд ли это было сказано искренне…
Но все же времена уже не были прежними — растоптать Стругацких не удалось, подорвать читательскую любовь к ним — тоже. В отличие от Булгакова авторы дожили до того дня, когда гонимая некогда повесть была напечатана в «Смене», журнале с полуторамиллионным тиражом. (Тираж «Ангары», между прочим, был всего 3000 экземпляров.) А вот дожить до выхода хотя бы первого тома собрания сочинений у себя на родине Аркадию не довелось.
Но за мной, читатель, за мной, как призывал классик. С сожалением оставим в стороне такие интересные свидетельства времени у тех же Стругацких, как «Хищные вещи века», «Второе нашествие марсиан», «Улитка на склоне», «Гадкие лебеди»… Как ни велика роль Стругацких, не они одни создавали новую фантастику.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
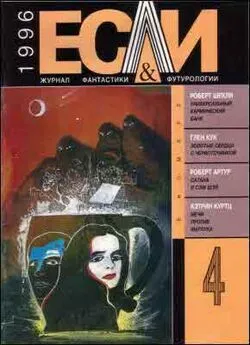

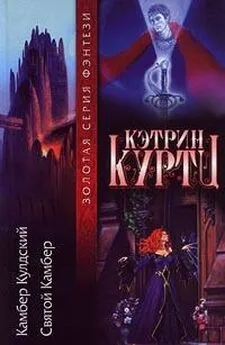
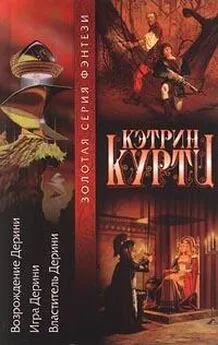
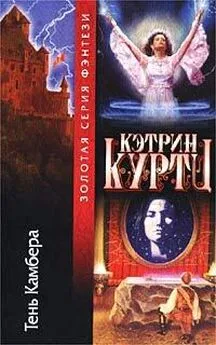
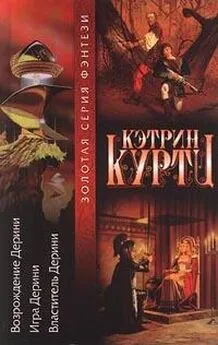
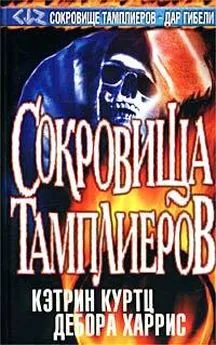
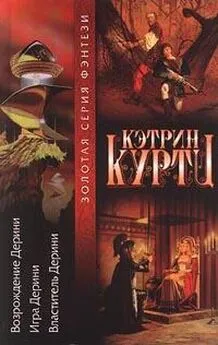
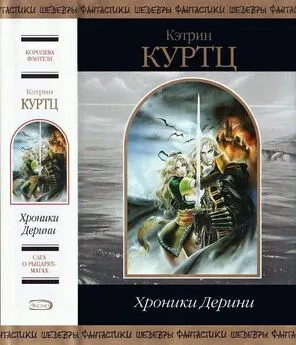
![Кэтрин Куртц - [Легенды о Камбере Кулдском 1-2] Камбер Кулдский. Святой Камбер](/books/607009/ketrin-kurtc-legendy-o-kambere-kuldskom-1.webp)