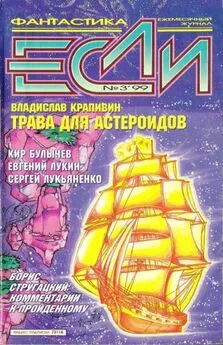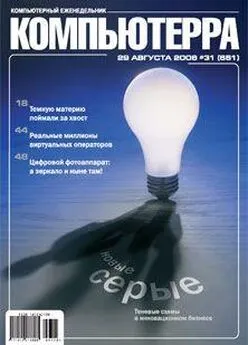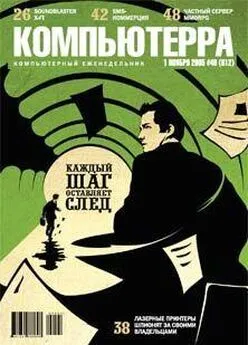Журнал «Если» - «Если», 1999 № 03
- Название:«Если», 1999 № 03
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательство «Любимая книга»
- Год:1999
- Город:Москва
- ISBN:ISSN0136-0140
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Журнал «Если» - «Если», 1999 № 03 краткое содержание
Владимир МИХАЙЛОВ. ПУТЬ НАЮГИРЫ
В детективе известного фантаста знания передаются от поколения к поколению… Но очень своеобразным способом!
Владислав КРАПИВИН. ТРАВА ДЛЯ АСТЕРОИДОВ
На этом астероиде все невзаправдашнее, кроме стебельков зеленой травы и отчаянного желания вернуться на Землю.
Василий ГОЛОВАЧЕВ. ПРИГОВОРЕННЫЕ К СВЕТУ
Современные злодеи с удовольствием используют достижения науки в своих целях.
Владимир ПОКРОВСКИЙ. ДОПИНГ-КОНТРОЛЬ
Устраивая гонки в виртуальных мирах, следует время от времени остановиться, оглядеться. Иначе вы рискуете перепутать явь и вымысел.
Евгений ЛУКИН. В СТРАНЕ ЗАХОДЯЩЕГО СОЛНЦА
Трудоголик — это не диагноз, это — статья.
Сергей ЛУКЬЯНЕНКО. ЗАПАХ СВОБОДЫ
В этом мире жить вполне можно. Но хочется ли?
Кир БУЛЫЧЕВ. БУДУЩЕЕ НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ
Газетный заголовок рассказа полностью соответствует актуальности его содержания.
Аркадий ШУШПАНОВ. ПРОЛОГ
Подводим итоги очередного этапа конкурса для начинающих писателей «Альтернативная реальность».
ВИДЕОДРОМ
В постоянной рубрике — рассказ об экранизациях произведений Александра Грина; киноверсии, дополняющие популярнейший телесериал; заметки о видеоновинках.
Максим БОРИСОВ. ТРЕВОЖНЫЕ СКАЗКИ
В рубрике «Литературный портрет» — автор центрального произведения номера.
Сергей ПЕРЕСЛЕГИН. КРИЗИС ПЕРЕПОТРЕБЛЕНИЯ
Современная российская фантастика находится на перепутье. Куда заведут ее дороги?
РЕЦЕНЗИИ
Книги продолжают выходить, рецензенты продолжают оттачивать перья…
КУРСОР
Новости из мира фантастики.
Александр РОЙФЕ. ПОДВИГ НОМЕР ТРИ
На этот раз «под лупой» новая книга популярного автора из Красноярска.
БОРИС СТРУГАЦКИЙ. КОММЕНТАРИИ К ПРОЙДЕННОМУ
Еще один этап творчества знаменитых фантастов: «Пикник на обочине», «Жук в муравейнике», «Хромая судьба»…
ПЕРСОНАЛИИ
Мини-интервью авторов номера.
«Если», 1999 № 03 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Почти неразличимая граница отделяет фантастику Крапивина от сказочных повестей. Сказка — это неопределенные мотивации поступков, точно во сне, условный антураж, не вполне конкретное место и время сказочного действия, ненавязчивое «обрамление», искусственно обосновывающее и подготавливающее вторжение особых реалий. Если и раньше сказка почти безболезненно переходила в реалистическую фантастику в трилогии «В ночь большого прилива» (1969–1977), если и раньше повесть могла иметь в себе смешанную сказочно-фантастическую атрибутику в «Детях синего фламинго» (1980), то позже сказка и фантастика переплелись еще теснее и органичнее — повести и романы из разных Циклов теперь имеют общих героев, общий антураж, историю и всеобщую «зеркальность» мира. Формально их объединяет все тот же Великий Кристалл, только в сказках преимущественно фигурирует его особая ипостась — Безлюдные Пространства, избранные в качестве чисто условного деления циклов. Возникают всяческие пересечения, автор все менее стеснен внутренними рамками. Ржавые ведьмы, другие фантастические существа и легендарные Хранители и Пограничники кочуют из повести в повесть, вне зависимости от заявленного статуса произведения и его возрастной адресации. «Более фантастические» вещи от «более сказочных» отличаются, пожалуй, лишь богатством спектра эмоций и большей жесткостью письма. Постоянный тревожный настрой во «взрослой» фантастике, «сладкая тоска» и «желтая тоска» — и в общем-то более беззаботные и оптимистичные сказки: «Портфель капитана Румба» (1990), «Чоки-Чок» (1992), «Серебристое дерево с поющим котом» (1992)… А вот «Дырчатая луна» (1993), «Самолет по имени Сережка» и «Тополиная рубашка», которые трудно назвать беззаботными, уже явно сказку взламывают и тяготеют к фантастике.
Сказки Крапивина фантастичны, а фантастика сказочна. Действие и происхождение магических предметов почти всегда имеют логическое, даже «научное» обоснование. Их применение, ритм их появления подчиняются вполне определенным законам. Детские деревянные кинжалы, мячики, свечи, монетки, кристаллы, увеличительные стекла, барабанные палочки, даже болтик и капроновый шнурок накапливают в себе искреннюю детскую жажду чудесного, но пустить это волшебство в ход можно лишь при определенных условиях, находясь в определенном душевном состоянии… Проникновение в иные миры тоже обставляется соответствующими ритуалами, ничуть не спорящими с «наукой», только лишь «уточняющими» ее.
В этих самых «мирах Великого Кристалла» с самого начала присутствовала некая избыточность, кажется, вполне ощущаемая и нарочно даже обыгрываемая по ходу дела самим автором. В самом деле, в книгах Крапивина всегда присутствовало всего два четко выделенных архетипа места — приморский город и уральский городок/поселок близ речки-озера. Очень редкие исключения построены лишь на противопоставлении привычному. Например, «Заяц Митька», напечатанный в «Уральском следопыте» (№ 1,1997 г.). Там поселок подмосковный, а не уральский. Странно было бы ожидать, что все вариации городов-отражений не сведутся также к этим двум типам. Если основной предмет описаний Крапивина — это душевные переживания подростка и рефлексия взрослого, вспоминающего детство и подружившегося с детьми, то простая мысль — «все в жизни повторяется» — не требует в общем-то мощной «многопространственной» поддержки.
Сюжетные ходы, ситуации, взаимоотношения, конфликты, увлечения героев (шпаги, паруса, песни, звезды, книги, путешествия) и черты их характера тоже дают такие повторяющиеся комбинации, легко узнаваемые и отсылающие к другим книгам писателя. Всякая новая вещь как бы состоит из таких уже знакомых «кубиков», составляющих особый образный ряд крапивинских произведений.
Казалось бы, можно объявить все вещи Крапивина сугубо «нереалистическими» на основании того, что действие в его романах и повестях развивается не в соответствии с законами, выводимыми из реальности обыденным сознанием, а в соответствии с требованиями, выдвинутыми автором — тут и высшая справедливость, и неизбежная кара за грехи… Но, во-первых, если эти законы и определены лишь авторским «произволом», они столь последовательны и непротиворечивы, что в согласии с ними вполне может существовать полноценная реальность, свойства которой можно внятно описать. А во-вторых, никакой реальности вне этих выведенных у Крапивина законов и не существует (если, опять же, не вспоминать о самых первых «романтических» рассказах, где присутствие «двоемирия» еще очевидно). То есть она, наша (?) обыденная реальность не противопоставлена какой-либо «крапивинской», а отрицается тотально, бесстрашно и насмешливо, без сокрытия отрицаемого источника, выступающего уже не в качестве источника, а напротив, в качестве общеизвестного, но, по сути своей, ложного воззрения.
В этом можно было бы сомневаться, имея дело лишь с одной какой-нибудь повестью цикла, всегда несущей, по крайней мере, два разных прочтения. «Голубятня на желтой поляне» до поры до времени как бы только тешит Яра и остальных чисто иррациональной надеждой найти друг друга после мнимой смерти. Лицеисты, гордые мальчики, поднявшие безнадежное восстание, продолжают мифическое существование в инобытии в виде «ветерков». Гелька Травушкин как бы превращается после смерти в галактику, а может быть, это просто иносказание. «Гуси-гуси, га-га-га…» завершаются то ли героической смертью Корнелия Гласа, то ли не менее героической его командорской деятельностью — автору, кажется, одинаково жалко расставаться с обоими вариантами. Окончание «Заставы на Якорном поле» (1988), где Ежики перемещается в иное пространство, вполне можно счесть романтической пере-фразой страшного финала, присутствием двух потенциально возможных исходов, и не ясно, какой из них реально воплощен в повести. Женька-Сопливик из «Сказок о рыбаках и рыбках» (1991) вынужден заплатить жизнью за победу над врагами и шагнуть на некую Дорогу, заменяющую банальную смерть. Т. е. наличествует некий паритет реальностей, но последующие продолжения цикла всегда «выпрямляют» концовку, в назидание обыденному избирая совершенно определенный авторский вариант, расправляясь таким образом со всяким мнимым двоемирием.
Никакой неясности, никакого зазора между реальностями в рамках всего цикла уже нет, и, лишая таким образом свои книги неоднозначности, Крапивин обращает именно обыденную трактовку лишь в метафору собственно фантастической реальности.
Обыденными законами пытаются руководствоваться персонажи, настроенные враждебно по отношению к героям. И часто это, по сути, единственное, что вменяется им в вину — их убежденность в том, что мир прост и примитивен, что галактика имеет глиняные мозги. Они неизбежно оказываются посрамлены, но, в конце концов, их ничто и не обязывает картинно расписываться в своем полном бессилии — они просто остаются при своем ложном мнении.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: