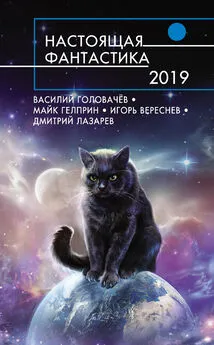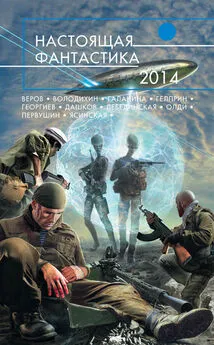Андрей Бочаров - Настоящая фантастика – 2013 (сборник)
- Название:Настоящая фантастика – 2013 (сборник)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Эксмо»334eb225-f845-102a-9d2a-1f07c3bd69d8
- Год:2013
- Город:Москва
- ISBN:978-5-699-63957-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Андрей Бочаров - Настоящая фантастика – 2013 (сборник) краткое содержание
Космический грузовоз терпит крушение на планете, посадка на которую категорически запрещена. Но что тогда здесь делает экспедиция земного Института Ксенологии? У невольного робинзона Макса Горнова считаные дни, чтобы разобраться в этом…
Французский ученый Рене Миро на исходе девятнадцатого столетия создает мираклин – «сыворотку чудес». Открытие Миро способно изменить человечество, а ведь жестокий двадцатый век уже не за горами…
Почему в советское время уже тогда всемирно известных писателей-фантастов Аркадия и Бориса Стругацких не баловали литературными премиями? Как партийные чиновники «превращали» Стругацких в диссидентов? Это и многое другое в малоизвестном интервью с Борисом Натановичем Стругацким…
Борис Стругацкий, Дмитрий Скирюк, Ярослав Веров, Игорь Минаков, Антон Первушин, Андрей Дашков, Дмитрий Володихин, Дарья Зарубина, Майк Гелприн и другие в сборнике, выпущенном по итогам Международного фестиваля фантастики «Созвездие Аю-Даг–2012».
Настоящая фантастика – 2013 (сборник) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
2. Насколько нам известно, братьев Стругацких в СССР вообще не баловали литературными премиями. Зато в странах так называемого «капиталистического окружения» о вас не забывали. 1977 год – Кэмпбелловская мемориальная премия, 1979 год – премия имени Жюля Верна, 1981 год – приз за лучшую иностранную книгу года, 1987 год – международная премия за вклад в фантастику, 1987 год – приз всемирной организации научной фантастики «За независимость мысли». Понятно, что в те времена подобные знаки внимания Запада к советским авторам не могли не насторожить «компетентные органы». Что Вы можете рассказать по этому поводу? Были ли у Вас или у брата проблемы с КГБ?
– Никаких проблем, непосредственно связанных с нашей работой, у нас с Конторой Глубокого Бурения, слава богу, не было. Война шла, так сказать, на нейтральной территории – в домах тех несчастных людей, которые виноваты были только в том, что читали и держали у себя самиздат. Мы узнавали об этом иногда (из писем и рассказов), а в большинстве случаев даже и не знали ничего. Прямой и крайне неприятный контакт с ГБ был только у меня в середине 70-х, когда меня допрашивали (как свидетеля) по «делу Эткинда – Хейфица». Как это было – можете прочитать у С.Витицкого в романе «Поиск предназначения» – там это всё описано с большой степенью достоверности.
3. Создается впечатление, что советское государство целенаправленно делало из братьев Стругацких диссидентов. Некоторые произведения цензоры заставляли переписывать буквально строчку за строчкой, другие – запрещались. Как Вы думаете, зачем это было нужно? Зачем, например, нужно было запрещать роман «Гадкие лебеди»? Неужели он настолько разрушал устои существовавшей идеологии? И может ли вообще какая-либо рукопись представлять серьёзную угрозу для государственной машины?
– По поводу «Гадких лебедей» следователь, меня допрашивавший, выразился в том смысле, что это не есть книга антисоветская, это – «книга упадническая». Почему надо изымать у граждан «самопальные» издания упаднической книги и наказывать владельца, направляя соответствующие кляузы ему на работу, – зачем это надо организации, призванной бороться исключительно за государственную безопасность, я спросить не решился. Да и не пришёл мне тогда в голову этот дерзкий вопрос. Но дело тут, видимо, в том, что тоталитарное государство иначе не умеет. В тоталитарном государстве – единая цель, единая власть, единая идея. А значит – по определению – любая идея, любая мысль, любая книга, отклоняющиеся от установленной нормы, суть угрозы государственной безопасности, и тоталитарное государство готово обрушиться на эту идею-мысль-книгу всей мощью своего репрессивного аппарата.
4. Почему, невзирая на давление со стороны властей, братья Стругацкие решились написать «Град обречённый»? Что лично для них значило это произведение?
– «Град» был задуман еще в конце 60-х и в процессе работы над ним претерпевал существенные изменения. В конечном счёте авторы стали писать его (и написали) как роман о судьбе типичного «шестидесятника» – человека, начинавшего яростным большевиком-сталинистом, прошедшего через все идеологические перипетии своего времени и растерявшего в конечном итоге вообще все мировоззренческие идеи, оказавшегося в пустоте, без идеологической опоры под ногами. В середине 70-х (когда роман был окончен) он казался нам весьма актуальным (настолько актуальным, что мы его даже в редакцию нести не рискнули и вообще скрывали почти от всех, что роман окончен). По-моему, он актуален и сейчас – недаром же разноголосый хор самых разных политических запевал вот уже много лет твердит: дайте же, дайте нам общегосударственную идею!
5. К счастью, времена меняются, и вот уже издательство «Сталкер» закончило выпуск третьего (или уже четвёртого?) собрания сочинений братьев Стругацких, претендующего на академизм и полноту. Выходит приличным тиражом и литературный журнал Бориса Стругацкого «Полдень, XXI век». Расскажите, пожалуйста, нашим читателям, что это за журнал. Какова его основная идея? Чем он отличается от других «толстых» литературных журналов? Каковы критерии отбора публикуемых произведений?
– «Полдень, XXI век» – журнал, о котором мы с АНС мечтали много лет. Подзаголовок у него – «Новый мир русской фантастики», а это значит, что мы намерены печатать всё лучшее, что пишут по-русски писатели, использующие специфический литературный приём, делающий произведение фантастическим: вводят в произведение сюжетообразующие элементы чудесного, невероятного и невозможного вовсе. Спектр фантастических произведений, понимаемых так, невероятно широк и многообразен: здесь и реалистическая, и научная, и философская фантастика, и магический реализм, и современная сказка (фэнтези), и остраннённая проза, и альтернативная история… Мы постараемся выпускать журнал, который будет интересен не только людям, читающим по преимуществу фантастику, но и квалифицированному читателю вообще – именно в этом, да ещё и в том, что зарубежную фантастику мы, как правило, печатать не намерены, – этим и отличается (по замыслу) наш журнал от всех аналогичных.
6. Борис Натанович, как известно, Вам с братом в своё время удалось поспособствовать расширению русского языка. Например, «сталкер» – это английское слово; в армии США существует специальное подразделение «Ночные сталкеры». Тем не менее, именно благодаря братьям Стругацким это слово стало частью русского языка со своим специфическим и отличающимся от оригинала смыслом. Расскажите, пожалуйста, как это произошло.
– Вообще-то, мы придумали несколько новых слов, ставших употребительными, правда, в основном в среде фэнов – «кибер», например, или «скорчер». До сих пор не знаю, кто первый придумал слово «планетолёт» – мы или Иван Антонович Ефремов. Но вы правы: «сталкер» – словечко, которое у всех на слуху, в том числе и у тех, кто ничего и никогда не читает. Заслуга тут, я думаю, всё-таки не столько наша, сколько А.Тарковского, снявшего по нашей повести фильм, ставший всемирно знаменитым. А придумали мы это слово так. В черновых разработках понятия «сталкер» не было. Охотники за внеземными чудесами в Зоне назывались у нас «трапперы» или просто «старатели». И только в самый последний момент, может быть, на первой же странице черновика выскочило у кого-то из авторов это звонкое словечко, которое и было принято обоими на ура. Прямо скажем, словечко это неправильно образовано и не свидетельствует о высокой грамотности авторов. В английском языке есть слов to stalk, означающее (в частности) «идти крадучись», «подкрадываться». Но читается оно как «сток», а значит, должно быть не «сталкер», а «стокер». Но мы-то взяли это слово не из словаря, а из древнего (конца 40-х) перевода замечательной книги Киплинга «Stalky&Co», который (перевод) АНС сделал, еще будучи курсантом ВИИЯка. Мне приходилось видеть и ещё чей-то, ещё дореволюционный, перевод этой книги, он назывался «Бесшабашная компания» (или что-то вроде) и был гораздо хуже перевода АНС, который мы дружно любили и всегда называли «Сталки и компания». От имени (неправильно образованного имени!) рискованного, лихого, дерзкого героя этой книги – Сталки – и пошло наше словечко «сталкер». Такая вот лингвистическая история.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
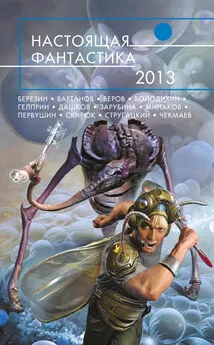
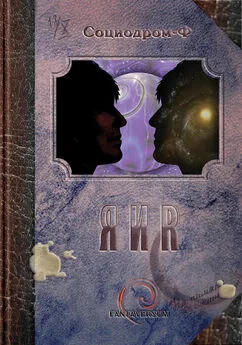
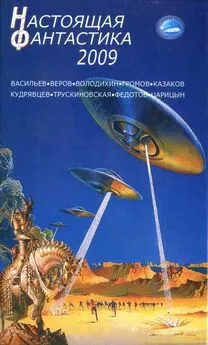
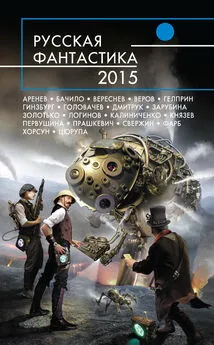

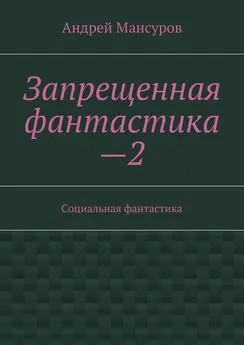

![Алекс Бор - Настоящая фантастика 2018 [антология]](/books/1062046/aleks-bor-nastoyachaya-fantastika-2018-antologiya.webp)