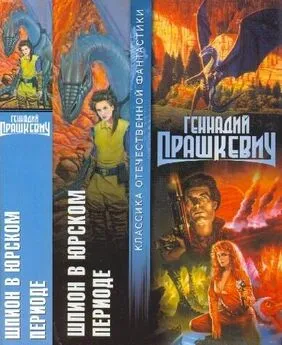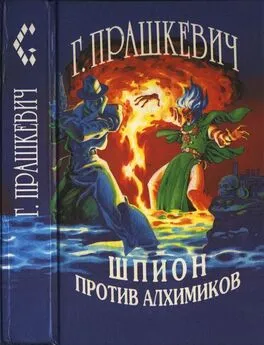Геннадий Прашкевич - Шпион в Юрском периоде
- Название:Шпион в Юрском периоде
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:АСТ
- Год:2003
- Город:М.
- ISBN:5-17-018256-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Геннадий Прашкевич - Шпион в Юрском периоде краткое содержание
Геннадий Мартович Прашкевич (р. в 1941 г.) — геолог и фантаст, впервые опубликовавшийся в 16 лет Блестящий рассказчик, писатель, в 1994 г. удостоенный премии “Аэлита” за вклад в развитие отечественной фанта-стики. Сейчас работает над очередной книгой.
Геннадий Прашкевич — автор книг “Разворованное чудо” (1978), “Война за погоду” (1988), “Пять костров ромбом” (1989), “Фальшивый подвиг” (1990), “Великий Краббен” (2002) — и многих других произведений.
В настоящем сборнике впервые полностью представлен остросюжетный фантастический цикл о приключениях промышленного шпиона — последняя часть этой эпопеи не издавалась еще никогда. Также в сборник вошли повести “Шкатулка рыцаря” и “Агент Алехин” и потрясающий образец мемуаров Прашкевича “Адское пламя”.
Шпион в Юрском периоде - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
***
Эх, Булгаков, если бы ты что‑нибудь понимал.
Еще в 30–х Александр Беляев заметил в одной из статей, что для романа о будущем (коммунистическом, понятно) необходим новый конфликт — “конфликт положительных героев между собой”. В 1962 году на московской встрече писателей–фантастов братья Стругацкие повторили практически те же самые слова. На их взгляд конфликты людей будущего — это “…борьба не добра со злом, а добра против добра. В этих конфликтах будут сталкиваться два или несколько положительных героев, из которых каждый убежден и прав по–своему, и в чистоте стремлений которых никто не сомневается. Они и в ожесточенных столкновениях останутся друзьями, товарищами, братьями по духу”.
Сравните это с цитатой из новогоднего интервью, данного братьями Стругацкими газете “Вечерняя Москва” (1964): “Двухтысячный год… Что будет характерно для человечества в то время?.. Во–первых, все международные конфликты будут решены. Во–вторых, во всем мире начнется наступление за человека в человеке, разные страны и государства будут использовать в этом отношении опыт, накопленный в СССР, а у нас работа по воспитанию людей нового уже завершится, исчезнут из жизни явления, которым соответствуют ныне понятия мещанства, обывательщины, мракобесия…”
Я привожу эту цитату 25 октября 1994 года.
Сегодня вторник, идет снег. Рубль продолжает падать, Чечня дерется.
Занятно думать, что к 2000 году у нас “работа по воспитанию людей нового уже завершится”…
Это я так.
Это просто о вреде прогнозов.
III
К концу 50–х заглохла космическая тема, обмелела до предела социальная струя в фантастике, сама фантастика превратилась в литературу прикладную, техническую. Если когда‑то фантасты, в меру отпущенного им таланта, пытались все‑таки лепить образ Нового человека — мятущегося интеллигента, гениального ученого–одиночку, великолепного инженера, конструирующего мечту, борца–патриота, побеждающего козни и заговоры мирового империализма, простого рабочего паренька, справляющегося как с многочисленными врагами народа, так и с непомерными горами Знаний, то теперь образ был как бы уже создан -
Простой Советский Человек!
— и как бы нечего было к нему добавить.
Если Евгений Замятин считал в свое время долгом доносить свои самые нелицеприятные взгляды до читателей, то Владимир Немцов давным–давно забыл, что писал в юности лирические стихи и даже абстрактные картины. Восхищение В. Немцова вызывали теперь совсем другие вещи, другие фигуры. И убедителен был при этом В. Немцов чрезвычайно (цитирую его книгу “Параллели сходятся”, 1975): “К. Е.Ворошилов, человек из легенды, герой гражданской войны, в конце Отечественной войны ведал вопросами культуры в стране, и знал культуру он прекрасно, не хуже, чем систему вооружения Советской Армии. В этом я убедился, когда Климент Ефремович вручал орден за мою уже не изобретательскую, а литературную деятельность…”
Умри Денис, лучше не напишешь!
“С особым волнением и благодарностью вспоминаются встречи с такими людьми, чьей деятельностью ты как бы по компасу проверяешь взятый тобою курс: не изменило ли тебе партийное чутье, чувство гражданского долга в самых, казалось бы, повседневных, будничных делах…”
Не изменило.
В ноябре 1951 года на дискуссии о состоянии и путях развития научной фантастики, организованной Домом ученых, Домом детской книги и ленинградским отделением Союза писателей, В. Немцов с удовольствием повторил с трибуны столь любимый им тезис: “Мы пишем о нашем сегодняшнем дне либо заглядываем совсем недалеко, через два–три года. Наша жизнь настолько интересна, фантастична, что от нее трудно оторваться, и именно о ней и нужно писать…”
Получалось так.
Красноармеец Гусев летел устраивать революцию на Марсе — судьба заблудших атлантов его не интересовала, профессор Преображенский дивился хитростям революции, еще больше дивясь нраву Шариковых, герои Адамова, выполняя приказ страны, не успевали закрывать ртов от удивления перед подводным миром, все время открывающимся перед их глазами, даже герои “Земли Санникова” с глубоким сочувствием вглядывались в жизнь онкилонов, я уж не говорю о неистовом интересе к миру героев Итина, Окунева, обоих Беляевых! И только герой Владимира Немцова, рассказывая об уникальном полете над Землей в искусственной космической лаборатории “Унион”, спокойно признается. “Скучали и больше всего смотрели на Землю… На большом экране вы, наверное, видели ее лучше нас. Я‑то не особенно восхищался. Вода, пустыни, туманы… Не видели мы самого главного, что сделали руки человеческие. Не видели каналов, городов, возделанных полей…” И когда любимых героев В. Немцова — Багрецова и Бабкина — спрашивали, хотят ли они первыми побывать на Марсе, каждый из них, не задумываясь, отвечал: “ Только для познания и славы? Не хочу! Вот если бы я знал, что, возвратившись с Марса, мог бы открыть на Земле новые богатства, вывести для тундры полезные растения, тогда бы полетел…”
И так далее, говорил Велимир Хлебников.
“Я согласен выносить голод, жару, бомбы, обстрел, болезни и раны, но не чувство удивления. Я с детства пришел к простоте и ясности. Я врагами считал непонятные книги, непонятные явления…” (В. Немцов “Снегиревский эффект”, 1946).
Да привыкнете, убеждали критики. Подумаешь — ближний прицел! Нормальная фантастика. Самосдергивающиеся штаны, многолемешные плуги, робот, почти научившийся чинить карандаши.
Привыкнете!
Блестящий жанр!
Вас потом за уши не оттащат.
В. И. Немцов (28.XI.88): “…О теории “фантастики ближнего прицела” я не слышал, хотя некоторые из критиков — родителей “чистой фантастики” — ругали меня за “приземленность”, а однажды была даже статья в молодежной газете, которая называлась “Изменивший мечте”. Да и теперь иные критики и редакторы торопятся объявить “техническую фантастику” устарелой. Мне же думается, могу даже утверждать, опираясь на свой жизненный опыт, как в технике, так и в литературе, что такая теория не имеет под собой основания. Дело ведь даже не в том, будет ли осуществлена в практической жизни та или иная техническая невидаль, придуманная автором книги, важно, как он об этом рассказал. Заставил ли читателей сочувствовать герою книги, маявшемуся в поиске решения технической задачи, и ненавидеть тех, кто мешает герою осуществить свой замысел на благо людям. А если в читателе (тем более юном) заложена изобретательская жилка или способность к конструированию, то такая книга как раз и поддержит его в таком деле, оно станет для него любимым, и тогда, как предрекал Горький, больные вопросы политехнизации школы будут решаться легче…”
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: