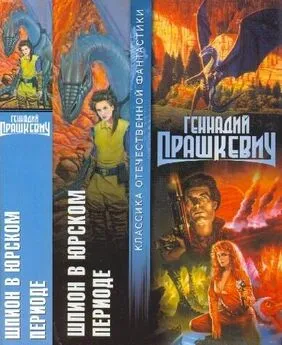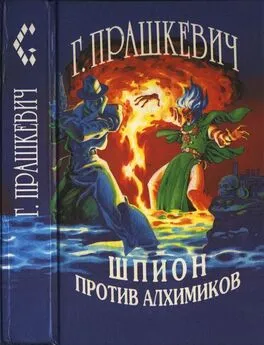Геннадий Прашкевич - Шпион в Юрском периоде
- Название:Шпион в Юрском периоде
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:АСТ
- Год:2003
- Город:М.
- ISBN:5-17-018256-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Геннадий Прашкевич - Шпион в Юрском периоде краткое содержание
Геннадий Мартович Прашкевич (р. в 1941 г.) — геолог и фантаст, впервые опубликовавшийся в 16 лет Блестящий рассказчик, писатель, в 1994 г. удостоенный премии “Аэлита” за вклад в развитие отечественной фанта-стики. Сейчас работает над очередной книгой.
Геннадий Прашкевич — автор книг “Разворованное чудо” (1978), “Война за погоду” (1988), “Пять костров ромбом” (1989), “Фальшивый подвиг” (1990), “Великий Краббен” (2002) — и многих других произведений.
В настоящем сборнике впервые полностью представлен остросюжетный фантастический цикл о приключениях промышленного шпиона — последняя часть этой эпопеи не издавалась еще никогда. Также в сборник вошли повести “Шкатулка рыцаря” и “Агент Алехин” и потрясающий образец мемуаров Прашкевича “Адское пламя”.
Шпион в Юрском периоде - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Зато роман И. Ефремова открыл путь в фантастику новому поколению.
Г. Н. Голубев (15.Х.88): “…А. Полещук был в высшей степени талантливый, остроумный и славный человек. Было в нем что‑то мушкетерское от Портоса: круглощекий, крупный, с лихо закрученными усами. Меня привлекало не только его творчество, но и то, что в жизни он увлекался весьма фантастическими идеями: вместе с Емцовым и Парновым, вдохновясь лишь одной фразой из “Диалектики природы” Энгельса, они ставили всякие хитроумные опыты, надеясь найти антигравитацию. К сожалению, Саша не успел ни перебраться в столицу из подмосковного поселка Томилино, ни стать членом Союза, как и не менее талантливый, но совершенно иной по характеру А. Днепров — сдержанный, суховатый, с желчным лицом застарелого язвенника, склонный к парадоксам и в жизни, и в своих рассказах, многие из которых, мне кажется, стали классикой нашей научной фантастики. Оба они умерли слишком рано…”
Б. Н. Стругацкий (18.VII.88): “…Писать фантастику мы начали потому, что любили (тогда) ее читать, а читать было нечего — сплошные “Семь цветов радуги”. Мы любили без памяти Уэллса, Чапека, Конан Дойла, и нам казалось, что мы знаем, как надо писать, чтобы это было интересно читать. Было (действительно) заключено пари с женой Аркадия Натановича, что мы сумеем написать повесть, точнее — сумеем начать ее и закончить, — так все и началось. “Страна багровых туч” после мыканий по редакциям оказалась в Детгизе, в Москве, где ее редактировал Исаак Маркович Кассель после одобрительных отзывов И. Ефремова (который тогда уже был Ефремовым) и Кирилла Андреева, который сейчас забыт, а тогда был среди знатоков и покровителей фантастики фигурой номер один… Иван Антонович в те времена очень хорошо к нам относился и всегда был за нас. В Ленинграде нас поддерживали Дмитревский, работавший в “Неве”, и Брандис — в то время чуть ли не единственный спец по научной фантастике.
Правда, Дмитревский так и не опубликовал нас ни разу, а Брандис все время упрекал Стругацких, что у них “машины заслоняют людей”, однако же оба они были к нам неизменно доброжелательны и никогда не забывали упомянуть о нас в тогдашних статьях своих и обзорах… Сопротивления особого я не припоминаю. Ситуация напоминала сегодняшнюю: журналы печатали фантастику охотно, хотя и не все журналы, а в издательства было не пробиться… Помнится, что нас тогда раздражало, было абсолютное равнодушие литкритики. После большой кампании по поводу “Туманности Андромеды” литкритики, видимо, решили, что связываться с фантастикой — все равно что живую свинью палить: вони и визгу много, а толку никакого. Мы тогда написали несколько раздраженных статей по этому поводу — все доказывали, что фантастика всячески достойна внимания литературоведов. Однако эти статьи напечатать не удалось…”
Но это уже — другие люди, другие книги, другая Антология.
IV
В 1934 году в издательстве “Биомедгиз” вышла удивительная монография В. К. Грегори “Эволюция лица от рыбы до человека”.
На прелестной вклейке, как ветка диковинного дерева, простиралась кривая с изображениями странных морд, приведших в итоге к человеческому лицу — тупая девонская акула, бессмысленная ганоидная рыба, нижнекаменноугольный эогиринус, пермская сеймурия, весьма лукавая на вид, триасовый иктидопсис, меловой опоссум, лемуровидный примат пропитекус, современная обезьяна Старого Света, питекантроп, обезьяночеловек с Явы, замечательно описанный в повести Н. Н. Плавильщикова, и, наконец, римский атлет — привлекательный малый с несколько ироничным выражением на поджатых губах.
Наверное, он догадывался, что под него подкапываются.
Наверное, он догадывался, что в СССР (по крайней мере в советской фантастике) вот–вот выведут Нового человека, лик которого воссияет над всем этим звериным рядом. Наверное, он догадывался, что партийные вожди гигантской империи всерьез озабочены выведением такого человека. Догадывался, догадывался, что скоро не он, а Новый человек замкнет долгую и не прямую ветвь эволюции!
“Где вы видели прогресс без шока, без горечи, без унижения? Без тех, кто уходит далеко вперед, и тех, кто остается позади?.. Шесть НТР, две технологические контрреволюции, два кризиса… Поневоле начнешь эволюционировать…” (А. и Б. Стругацкие).
Эволюция, к счастью, не зависела от партийных вождей. Даже гигантской империи. Лик человеческий, истинное человеческое лицо формировалось, к счастью, не А. Ждановым, и не М. Сусловым, и не теми фантастами, которые мечтали о самоскидывающихся штанах.
Эх, Булгаков, если бы ты что‑нибудь понимал.
1986–1994
АГЕНТ АЛЕХИН
Ты спрашиваешь, откуда стартуют ядерные бомбардировщики, приятель? Они стартуют из твоего сердца.
М. Орлов
I
— Теперь возьмешь?
— И теперь не возьму. — Алехин еле отмахивался. — Козлы! Вообще не беру чужого!
— Чего врешь‑то? — наседал на Алехина маленький, глаза раскосые, длинные волосы неряшливо разлетались по кожаным плечам. По плечам кожаной куртки, понятно. — Ты недавно червонец увидел на дороге, что — не взял? “Вообще не беру чужого”! Раскудахтался!
Спрашивая, маленький злобный тип все время оглядывался на приятеля. Длинный смуглый приятель почему‑то ласково назвался Заратустрой Намангановым. Непонятно только, откуда маленький тип мог знать про червонец, недавно найденный Алехиным на дороге. И непонятно, почему так ласково назвался Заратустрой длинный. Никто не просил его как‑то называться. В самом имени Заратустры Алехину послышалось что‑то тревожное. К тому же на голове длинного набекрень сидела гигантская кавказская кепка. Конечно, мохнатая.
А третий вообще ни на кого не походил. Ну, может, на Вия — чугунный, плотный, плечистый. Мощный нос перебит, сросся неровно, криво, на плечах ватная телогрейка. Алехин таких не видел сто лет.
— Ну, возьмешь?
— Не возьму.
— Ты же не за так берешь, — упорствовал маленький. — Ты за деньги.
— А я и за так не возьму.
Конечно, Алехин мог бы что‑то приврать, подкинуть что‑то такое сильное, обвести козлов вокруг пальца, но Верочка твердо предупредила его — не врать! Даже установила испытательный срок и близко к себе Алехина не подпускала. Срываться из‑за таких козлов? Жалко. Соврешь, а волны далеко пойдут. Известно ведь, начнешь с мелочей, с истинной правды — ну, скажем, служил на флоте. А потом почему‑то из сказанного тобой как‑то само собой выходит, что ты не просто служил, а выполнял тайные приказы правительства. Или заметишь, что, мол, живу в домике под снос, правда, в самом центре города, а получается, будто он, Алехин, в ближайшее время получает элитную двухуровневую квартиру со встроенным гаражом.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: