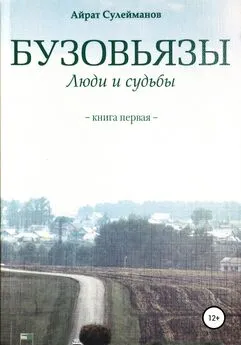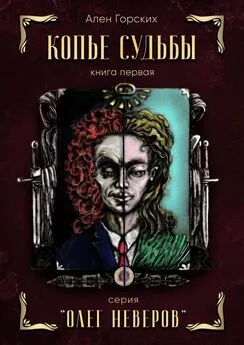Юрий Шушкевич - Вексель Судьбы (книга первая)
- Название:Вексель Судьбы (книга первая)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Юрий Шушкевич - Вексель Судьбы (книга первая) краткое содержание
В основе сюжета - судьба двух советских разведчиков-диверсантов, которые в результате хронопортации переносятся из 1942 в 2012 год.
В нашем сегодняшнем мире им удаётся быстро "акклиматизироваться" и стать участниками многочисленных событий, связанных с розысками исчезнувшего за рубежом крупного царского вклада. Однако вместо капиталов, лёгших в основу мировой финансовой системы и с известных пор правящих миром, героям романа удаётся обрести сокровища иного рода. Роман интересен многочисленными историческими коллизиями и футурологическими прогнозами, которые, будучи преломлёнными в сознании людей первой половины XX века, зачастую раскрываются с неожиданной стороны.
Вексель Судьбы (книга первая) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Когда Петрович заснул, Алексей включил крошечный ночник и вернулся к отцовскому посланию. Страницы, с которых было зачитано отцовское послание, были лишь вклеены в тетрадь, исписанную незнакомым мелким почерком. Рукопись предварял оставленный рукой отца короткий комментарий, из которого следовало, что тетрадь эта была написана его однокашником по университету Платоном Фатовым. Гражданская война и эмиграция разлучила их, но три года назад Николай Савельевич неожиданно встретил Платона в Москве на одном из приёмов по линии НКИД.
Да, да, это действительно было так. Алексей вспомнил, как осенью тридцать восьмого года у них до поздней ночи гостил высокий светловолосый человек в шикарном тёмно-бежевом костюме, представляя которого отец упомянул, что тот "только что из Берлина". Гость был весел, остроумен, болтал о недавно вспыхнувшем романе Ремарка с Марлен Дитрих, рассказывал о своём знакомстве с Караяном, проча тому славу Тосканини, а также делился впечатлениями о грандиозной архитектурной выставке в германской столице, откуда он был не прочь перенять ряд принципиальных идей для перестройки Москвы. Но что было особенно любопытно -- из его уст Алексей впервые услышал показавшееся тогда невероятным суждение о том, что в гитлеровской Германии есть силы, которые склоняются к возобновлению добрых отношений с Советским Союзом и что в скором времени Берлин и Москва должны будут сделать навстречу друг другу весьма значительные шаги. Эти слова гостя так бы и остались экстравагантной причудой, если бы в августе тридцать девятого он не вспомнил о них в связи с неожиданным заключением советско-германского договора. Тогда же Алексей окончательно убедился, что отцовский приятель-эмигрант, владеющий подобного рода информацией и свободно перемещающийся между Москвой и заграницей, не может не быть связаным с определёнными советскими органами, и поэтому сразу же зарёкся поменьше о нём думать или, лучше всего, -- забыть.
Однако забыть белокурого красавца не получилось, поскольку Платон Фатов, как следовало из составленного отцом комментария, в начале ноября 1941 года снова появился в столице и прожил в их квартире несколько дней.
Углубившись в дальнейшее чтение, которое представляло собой оставленный Фатовым дневник с описанием событий, происходивших с ним начиная с конца июля 1941 года, Алексей с изумлением и немым восторгом начал понимать, зачем и во имя чего отец поместил эту тетрадь в тайник и с чем, возможно, связано его собственное фантастическое воскрешение спустя семьдесят лет после войны.
Итак, вот что было написано в той тетради.
"8/XI-1941
Восьмое ноября -- по советскому табель-календарю, пока никем не отменённому, -- второй выходной... После прошедшего снегопада в городе немного потеплело. Вчерашний парад на Красной Площади и речь Сталина, транслировавшаяся всеми радиоточками, заметно подняли дух и вдохнули уверенность, что вражеский натиск удастся остановить. И словно в подтверждение надежд, что прежняя жизнь ещё может вернуться, зима на полшага отступила, подарив ещё одну передышку предзимья -- короткого, но всё ещё немного согретого уходящим теплом лоскутка времени между беспокойными осенними сумерками и близящейся ночью года. "Не греет камин, и только глинтвейна горячий глоток вернуть мне способен рассудочность мыслей и прежнюю жажду любви..." Да, только здесь и теперь, пожалуй, я начинаю понимать в полной мере, до какой же степени я любил это задумчивое и мимолётное предзимье в моей прежней развесёлой и лихой московской юности! Никакая, даже самая роскошная европейская осень не сравнится с закатом осени московской -- слякотным, промозглым, но зато, как ничто другое, располагающим к сосредоточенному ожиданию и тихой надежде.
Надежде!.. Что ж -- пожалуй, я и в самом деле отказываюсь замечать, насколько я постарел и как изменился мир вокруг! Уж чего-чего, а надежды-то у меня как раз и нет! После того как сегодня в полночь истечёт короткий срок, положенный с момента моего приезда в Москву для прописки, я снова сделаюсь нелегалом. Стану вне закона в стране, которую всегда почитал как родную мать и которой старался служить честно и беззаветно все последние долгие годы. Злоупотреблять доверием и гостеприимством достигшего государственных высот Николая, заставлять его идти на риск, приютив в своей квартире эмигранта и беглеца с подложными документами, сумевшего одурачить НКВД в Архангельске, на глухой северной станции и на платформе дачного поезда в подмосковной Лосинке,-- я не посмею ни единого лишнего дня. Мой предстоящий путь теперь ясен и необратим -- ближайший сборный пункт ополчения Грузинском валу, где не смотрят документы. Ну а потом -- пара ночей в каком-нибудь пакгаузе вместо казармы, винтовка из музея времён Балканского похода, как вчера рассказывала про вооружение ополченцев любезнейшая Евдокия Семёновна, мёрзлый окоп под Можайском, ну а далее -- ваше слово, госпожа судьба! Вполне догадываюсь, каким именно будет это слово, однако не ропщу, не жалею и не молюсь.
Вознёсшийся под самые кремлёвские звёзды Николай Савельевич (а ведь когда-то -- просто Николашка, выпивоха и фрондёр) сейчас на работе и вернётся из наркомата, как предупредил, часов в пять утра, не раньше. Евдокия Семёновна будет находиться в эвакуационном комитете на Курском вокзале до нескорой, судя по её словам, отправки в Ср. Азию эшелона с музыкантами, посему мне предстоит оставаться в их квартире одному. Лучшего для себя не пожелаешь -- тишина за наглухо задраенными окнами, неизвестность, тусклый свет настольной лампы, эта тетрадь... Если начнётся германский авианалёт и объявят тревогу -- спускаться в бомбоубежище не стану, поскольку не могу лишний раз рисковать, выходя на улицу без документов. Будь что будет. Если то, во имя я добирался сюда через четыре границы, имеет значение и действительно нужно для России, то до утра, я уверен, со мною ничего не должно произойти. Полагаю, что я успею и всё, что должен, изложить в этой тетради, словно на исповеди.
Дай-то бог вспомнить, когда я последний раз исповедовался? В тринадцатом году? В шестнадцатом? Да, в шестнадцатом, поскольку уже шла война, и поэтому церкви понемногу снова стали заполняться людьми. Но у меня, помню, тогда ничего не вышло: равнодушный и неопрятный попик никак не вязался в моём представлении с предстоянием Господу Богу, поэтому после невнятной скороговорки, которой он ответил на мой исповедальный монолог, я решил не подходить к причастию и сразу же покинул храм. Тогда же я подумал, что точно так же, вместе с угасающей русской церковью, угасает и прежняя жизнь, и возлюбленная мною Москва.
Угасание Москвы отложилось в моей памяти несколькими последовательными волнами. Первой волной был немецкий погром в октябре четырнадцатого года с юной девицей, растерзанной и брошенной умирать в луже крови на мостовой Кузнецкого возле магазина "Швабе". Эта нелепая и бессмысленная смерть, которая никому не поможет, ничего не решит и при этом завтра же будет всеми забыта, отложилась в моей душе печатью отчаянья и навсегда похоронила радушие и былую приветливость старосветской столицы. Второй раз я почувствовал холод перемен спустя пару лет, когда у меня в трамвае прилюдно отобрали кошелёк, я взмолился о помощи -- и вдруг понял, что вокруг меня толпятся совершенно другие люди, всецело равнодушные и чужие. Потом были истязания и бессудные расстрелы юнкеров и офицеров, к которым я, как вольноопределяющийся, едва было не примкнул, разруха, книги вместо дров, бледное лицо матери, когда она отвозила собранные в узел семейные драгоценности в Сходню, чтобы на какой-то спецдаче передать их столоначальнику из ВЧК для оформления нашей семье разрешения на отъезд за границу.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: