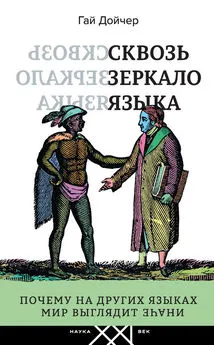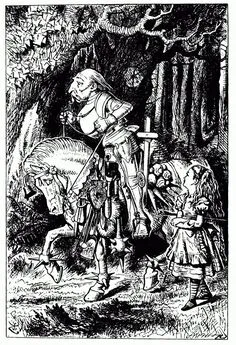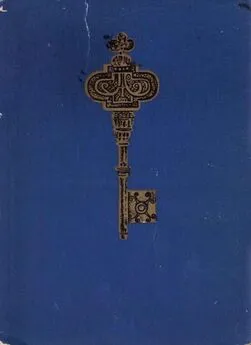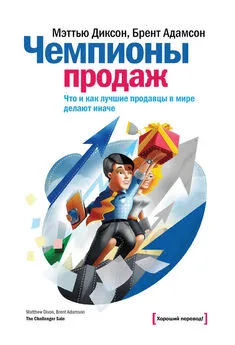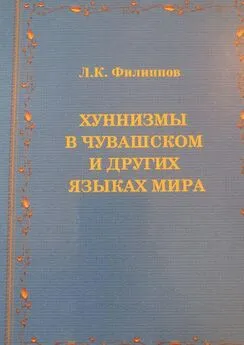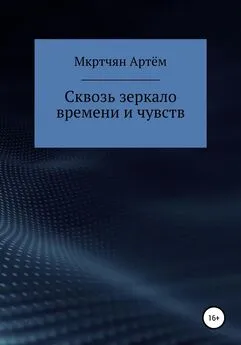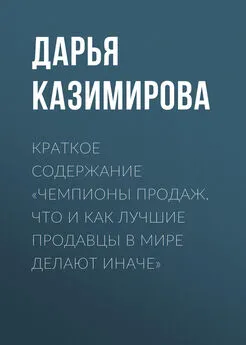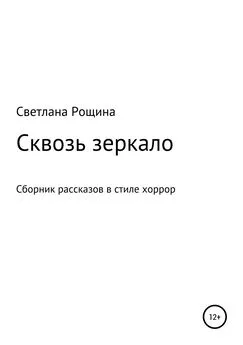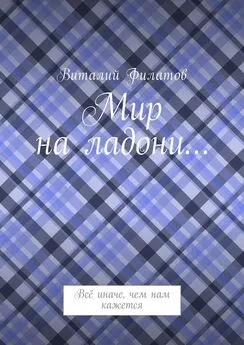Гай Дойчер - Сквозь зеркало языка. Почему на других языках мир выглядит иначе
- Название:Сквозь зеркало языка. Почему на других языках мир выглядит иначе
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ЛитагентАСТc9a05514-1ce6-11e2-86b3-b737ee03444a
- Год:2016
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-083711-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Гай Дойчер - Сквозь зеркало языка. Почему на других языках мир выглядит иначе краткое содержание
Книга «Сквозь зеркало языка» – один из главных научно-популярных бестселлеров последних лет. Почему в некоторых культурах синий и зеленый цвета обозначаются одним и тем же словом? Почему Гомер называл море «виноцветным»? Почему коренные жители Австралии вместо «правый» и «левый» говорят «западный» и «восточный»? Как язык определяет образ жизни человека и судьбу народа? Остроумная и блестяще написанная книга одного из самых известных современных лингвистов – настоящий подарок для всех, кто интересуется жизнью языка и разнообразием человеческой культуры.
Сквозь зеркало языка. Почему на других языках мир выглядит иначе - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
И пока он не достиг тридцати пяти лет, ничто не предвещало, что в один прекрасный день он вырвется из накатанной колеи или что его лингвистические интересы протянутся дальше почитаемых латинского и греческого языков. Его первая публикация в девятнадцать лет была о Сократе и Платоне; затем он писал о Гомере и переводил Эсхила и Пиндара. Казалось бы, перед ним расстилалась счастливая жизнь ученого классической школы.
Его лингвистический путь в Дамаск [200]пролегал через Пиренеи. В 1799 году он путешествовал по Испании и был совершенно очарован народом басков, их культурой и ландшафтами страны. Но превыше всего он заинтересовался их языком. Это был язык, носители которого жили на территории Европы, и все же он бесконечно отличался от них и явно принадлежал другой языковой семье. Вернувшись из путешествия, Гумбольдт провел несколько месяцев, читая все подряд, что только мог найти, про басков. Но поскольку в литературе почти не было достоверной информации, он вернулся в Пиренеи, чтобы провести серьезное полевое исследование и самому выучить язык. Чем больше он узнавал, тем яснее понимал, насколько структура этого языка – а вовсе не только словарь – отличается от всего, что он знал и что раньше считал единственной естественной формой грамматики. Постепенно ему стало ясно, что не все языки сделаны по образу и подобию латыни.
Движимый пробудившимся любопытством, Гумбольдт попытался найти описания еще более далеких языков. О них в то время почти ничего не писали, но возможность что-то разузнать представилась, когда в 1802 году он стал прусским посланником в Ватикане. Рим был полон иезуитов-миссионеров, которых изгнали из их миссий в испанской Южной Америке, а ватиканская библиотека содержала множество рукописей с описаниями языков Южной и Центральной Америки, созданных миссионерами до или после возвращения в Рим. Гумбольдт прочесывал эти грамматики вдоль и поперек, и теперь, когда баски открыли ему глаза, он смог обнаружить, насколько искаженную картину представляли собой эти сочинения: структуры, которые отклонялись от европейских типов, или проходили незамеченными, или принудительно были приведены к европейскому шаблону. «Грустно видеть, – писал он, – какое насилие учинили эти миссионеры и над собой, и над языками, чтобы загнать их в тесные правила латинской грамматики» [201]. В своей решимости понять, как на самом деле работают американские языки,
Гумбольдт полностью переписал многие из этих грамматик, и постепенно из-за фасада латинских парадигм показалась настоящая структура языков.
Гумбольдт продемонстрировал лингвистам необходимость изучения языков. Конечно, обрывочные сведения из вторых рук, собранные им о языках американских индейцев, были совсем не тем глубоким знанием из первоисточника, которым будет так гордиться Сепир сто лет спустя. А с учетом всего, что мы теперь знаем об устройстве грамматики в различных языках, можно сказать, что Гумбольдт едва коснулся этой проблемы. Но слабый луч света, пролитый его трудами, казался ослепительным в той полной тьме, в которой томились он и его современники.
Восторг от прорыва в новые миры смешивался для Гумбольдта с досадой от необходимости объяснить ценность своих открытий бестолковому миру, который продолжал рассматривать изучение примитивных языков как занятие, годное только для собирателей бабочек. Гумбольдт не жалел усилий, чтобы объяснить, почему глубокие несходства грамматик были на самом деле окном, позволявшим увидеть гораздо более важные вещи. «Их различие состоит не только в отличиях звуков и знаков, но и в различиях самих мировидений. В этом заключается основа и конечная цель всякого исследования языка», – утверждал он [202]. Но это было еще не все. Гумбольдт также объявил, что грамматические различия не только отражают уже имеющиеся отличия в мышлении, но и обеспечивают формирование этих различий. Родной язык «является не только средством выражения уже познанной действительности, но, более того, и средством познания ранее неизвестной». [203]Поскольку язык «есть формирующий орган мысли» [204], то должна быть тесная связь между законами грамматики и законами мышления. «Мышление, – заключал он, – не просто зависит от языка вообще – оно до известной степени обусловлено также каждым отдельным языком» [205].
Итак, на горизонте появилась привлекательная идея, которую в 1930-х подхватят (и повторят еще не раз) в Йеле. Сам Гумбольдт никогда не заходил так далеко, чтобы утверждать, что наш родной язык может полностью ограничить наши мысли и интеллектуальные горизонты. Он явно признавал то, что так легко терялось в шумихе, поднятой Уорфом через сто лет, а именно – что в принципе любую мысль можно выразить на любом языке. Настоящие различия между языками, утверждал он, не в том, что может выразить язык, но в том, «на что он подвигает и стимулирует своих носителей через внутреннюю свою силу». [206]
Что, собственно, такое эта «внутренняя сила», какие идеи она преимущественно «стимулирует» выражать и как она может это делать на практике, в трудах Гумбольдта всегда оставалось довольно трудноуловимым. Как мы увидим, его основная догадка была здравой, но его утверждения по поводу влияния родного языка на мышление всегда витали в верхних слоях стратосферы философских общих понятий и никогда на деле не опускались до практических мелочей, несмотря на глубокое знакомство со многими экзотическими языками.
И в самом деле, в своих многотомных рассуждениях на эту тему Гумбольдт оставался верен двум первым заповедям любого великого мыслителя: 1) не конкретизируй; 2) не воздерживайся от противоречий самому себе. Но, наверное, именно эта неконкретность снискала ему симпатии современников. С легкой руки Гумбольдта среди великих и достойных людей стало модно отдавать должное влиянию языка на мышление, и пока никто не ощущал потребности приводить какие-либо конкретные примеры, можно было не отказывать себе в звучных, но совершенно не подкрепленных художественных образах. Известный оксфордский профессор филологии Макс Мюллер в 1873 году заявил, что «слова, которыми мы думаем, есть каналы мысли, которые мы не сами прокопали, но нашли для себя уже готовыми». [207]А его заокеанская немезида, американский лингвист Уильям Уитни, мог не сходиться во мнении с Мюллером ни в чем другом, но тем не менее согласился с тем, что «каждый язык в отдельности имеет свой специфический корпус установившихся различий, образы и формы мысли, в которые отливается содержание и продукты мышления, хранилище впечатлений… опыт и знания о мире человека, постигающего этот язык в качестве родного» [208]. Математик и философ Уильям Кингдон Клиффорд спустя несколько лет добавил, что «это мысли прошлого человечества, встроенные в наш язык, делают природу тем, чем она является для нас». [209]
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: