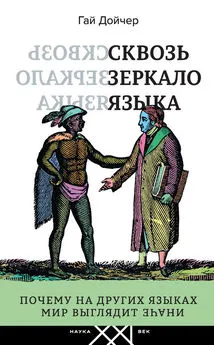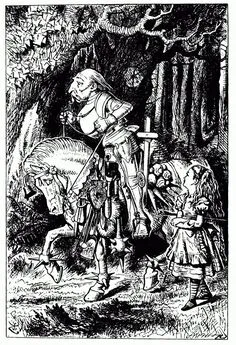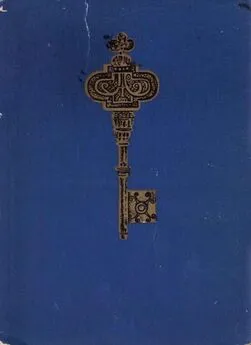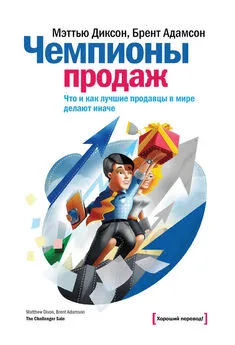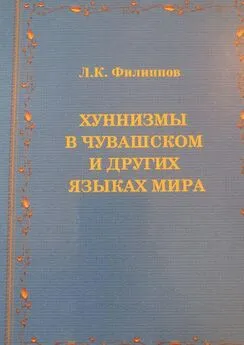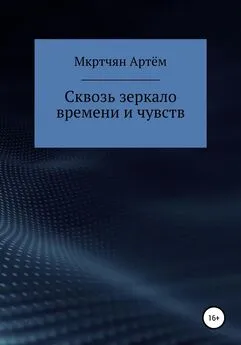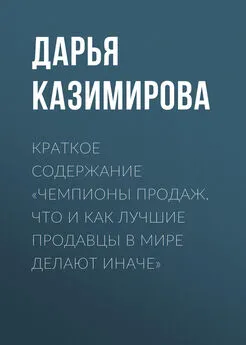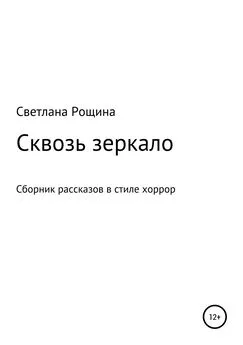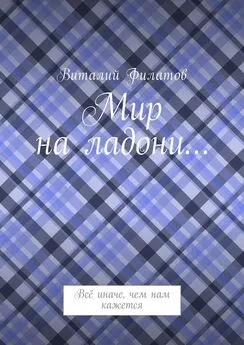Гай Дойчер - Сквозь зеркало языка. Почему на других языках мир выглядит иначе
- Название:Сквозь зеркало языка. Почему на других языках мир выглядит иначе
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ЛитагентАСТc9a05514-1ce6-11e2-86b3-b737ee03444a
- Год:2016
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-083711-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Гай Дойчер - Сквозь зеркало языка. Почему на других языках мир выглядит иначе краткое содержание
Книга «Сквозь зеркало языка» – один из главных научно-популярных бестселлеров последних лет. Почему в некоторых культурах синий и зеленый цвета обозначаются одним и тем же словом? Почему Гомер называл море «виноцветным»? Почему коренные жители Австралии вместо «правый» и «левый» говорят «западный» и «восточный»? Как язык определяет образ жизни человека и судьбу народа? Остроумная и блестяще написанная книга одного из самых известных современных лингвистов – настоящий подарок для всех, кто интересуется жизнью языка и разнообразием человеческой культуры.
Сквозь зеркало языка. Почему на других языках мир выглядит иначе - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Однако в течение XIX века такие утверждения оставались редкими риторическими украшениями. И только в ХХ веке лозунги превратились в конкретные утверждения о предполагаемом влиянии определенных грамматических феноменов на мышление. Идеи Гумбольдта теперь подверглись быстрому сбраживанию, и по мере того, как хмель новой теории крепчал, риторика утрачивала трезвость суждений.
Лингвистическая относительность
Что же такое витало в воздухе, что послужило катализатором этой реакции? Одной причиной могло стать сильнейшее (и вполне обоснованное) возбуждение, вызванное необычайными успехами лингвистов в понимании странной природы языков американских индейцев. В Америке исследователям не было надобности корпеть над рукописями из библиотеки Ватикана, чтобы выявить структуру туземных языков континента, – в их распоряжении были десятки живых языков, которые можно было изучать на месте. Более того, за столетие, отделяющее Сепира от Гумбольдта, наука о языках головокружительно усложнилась, и аналитический инструментарий в распоряжении лингвистов стал гораздо мощнее. Когда эти изощренные инструменты применили к сокровищнице языков американских туземцев, взгляду исследователей предстали грамматические ландшафты, о которых Гумбольдт и мечтать не мог.
Эдвард Сепир, как и Гумбольдт за столетие до него, начал свою лингвистическую карьеру вдалеке от роскошных перспектив американских языков. Его работа в Колумбийском университете была связана с германскими языками и сводилась скорее к педантичному коллекционированию малоизвестных форм слов в древних языках, над которым он иронизировал в процитированном выше пассаже. Сепир утверждал, что сменить пыльное кресло германской филологии на широкое поле индейских языков он решился под влиянием Франца Боаса, харизматичного профессора антропологии в том же университете и первопроходца в научном исследовании туземных языков континента. [210]Спустя годы Сепир вспоминал об изменившей его жизнь встрече с Боасом. На каждое обобщение по поводу структуры языков, в которое до тех пор верил Сепир, тот приводил контрпримеры из того или иного индейского языка. Сепир почувствовал, что германская филология очень мало чему его научила и что ему еще предстоит «все узнать о языке». [211]С этого времени он прилагал свой легендарный острый ум к изучению языков чинук, навахо, нутка, яна, тлинкит, сарси, кучин, ингалик, хупа, пайют и других, разбирая их с непревзойденной ясностью и глубиной.

Эдвард Сепир, 1884–1939 гг. (Флоренс Хендершот)
Но дело было не только в открытии множества странных и экзотических грамматик. В воздухе витало нечто такое, что подтолкнуло Сепира сформулировать свой принцип лингвистической относительности. Это было радикальное направление в философии начала ХХ века. В то время такие философы, как Бертран Рассел и Людвиг Витгенштейн, были заняты порицанием разрушительного влияния языка на предшествующую метафизику. Рассел писал в 1924 году: «…язык вводит нас в заблуждение посредством словаря и синтаксиса. Мы должны быть настороже в обоих случаях, если не хотим, чтобы наша логика вела нас к ложной метафизике» [212]. Сепир превратил утверждения о влиянии языка на философские идеи в тезис о влиянии родного языка на обыденные мысли и восприятие. Он заговорил о «тираническом влиянии, которое оказывает языковая форма на нашу ориентацию в мире» [213], и в отличие от всех своих предшественников, он стал подкреплять такие лозунги реальным содержанием. Вот какой пример того, как специфические языковые отличия должны влиять на мысли носителя языка, он предложил в 1931 году. Когда мы наблюдаем камень, летящий в пространстве к земле, объяснял Сепир, мы невольно разделяем это событие на два отдельных понятия: камень и действие падения, и мы заявляем, что «камень падает». Мы считаем, что это единственно возможный способ описания такого события. Но необходимость деления на «камень» и «падает» – это лишь иллюзия, потому что язык нутка, на котором говорят на острове Ванкувер, действует иначе. Там нет глагола, соответствующего нашему «падать», который может независимо описывать действие разных падающих объектов. Вместо этого для описания движения камня используется специальное слово вроде «камнить». Чтобы описать событие падения камня, это слово сочетается с элементом «вниз». Так что описание события, которое мы разбиваем на «камень» и «падать», на нутка описывается как что-то вроде «камнит вниз». Такие реальные примеры «несоизмеримости членения опыта в разных языках, [214]– говорит Сепир, – привели бы нас к общему выводу об одном виде относительности, которую скрывает от нас наше наивное принятие жестких навыков нашей речи… мы имеем дело с относительностью понятий, или, как ее можно назвать по-другому, с относительностью формы мышления» [215]. Этот вид относительности, добавляет Сепир, «не столь трудно усвоить, как физическую относительность Эйнштейна; однако наша относительность наиболее легко ускользает от научного анализа. Ибо для ее понимания сравнительные данные лингвистики являются условием „sine qua non“» [216].
К несчастью для Сепира, именно за счет того, что он оставил уютную неопределенность философских лозунгов и углубился в ледяные сквозняки конкретных языковых примеров, стал виден тонкий лед, на котором стоит его теория. Выражение из языка нутка «это камнит вниз», безусловно, очень оригинальный способ описания событий, и это, конечно, звучит странно, но должна ли эта странность означать, что говорящие на нутка обязаны воспринимать это событие по-иному? Подразумевает ли слияние глагола и существительного в нутка, что носители этого языка не имеют в своем сознании отдельных образов объекта и действия? Мы можем проверить это, если приложим аргумент Сепира к несколько более знакомому языку. Возьмем английскую фразу «идет дождь», буквально «это дождит» (it rains). Эта конструкция на самом деле очень схожа с «это камнит вниз» из нутка, потому что действие («падает») и объект («капли воды») скомбинированы в одно глагольное понятие. Но так поступают не все языки. В моем родном языке объект и действие разделяются, мы говорим нечто вроде «дождь падает». Так что вот вам глубокое отличие в том, как наши языки выражают событие дождя. Но значит ли оно, что вы и я должны по-разному воспринимать дождь? Чувствуете ли вы, что грамматика вашего родного языка мешает вам понять разницу между водной субстанцией и действием падения? Кажется ли вам трудным соотнести падение дождевых капель с другими объектами, которые падают? Или отличия в способах, которыми наши языки выражают идею дождя, – всего лишь отличия в грамматической организации?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: