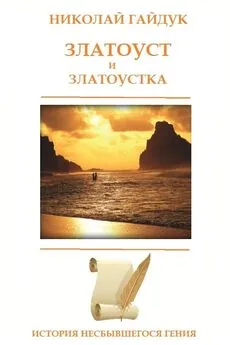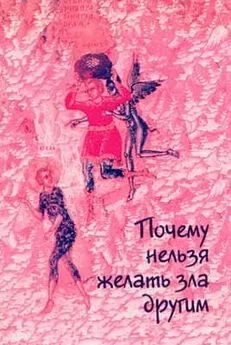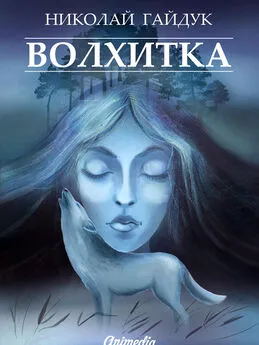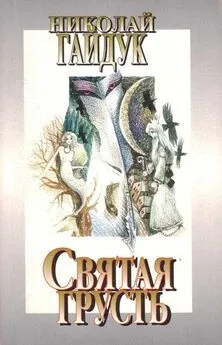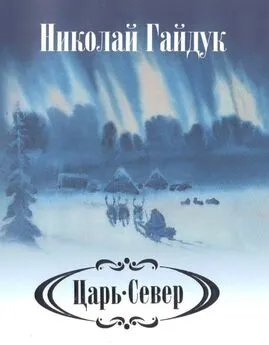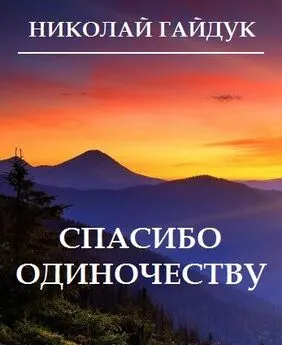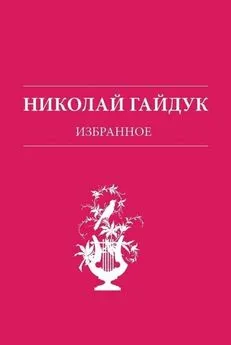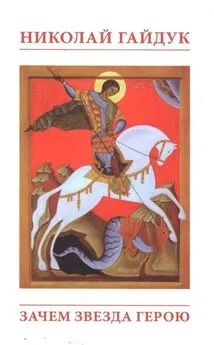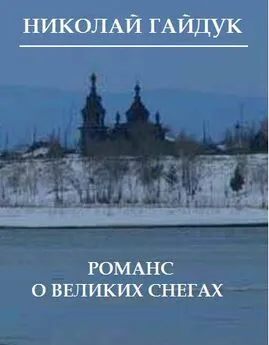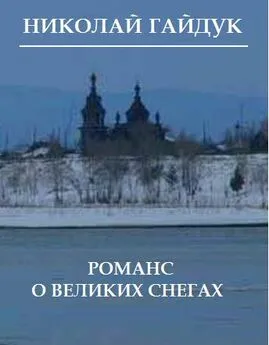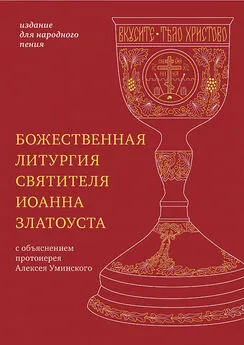Николай Гайдук - Златоуст и Златоустка
- Название:Златоуст и Златоустка
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:978-5-906101-34-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Николай Гайдук - Златоуст и Златоустка краткое содержание
Оригинальны и самобытны герои произведения: Старик-Черновик, Воррагам, Нишыстазила. Ну и, конечно, сам Златоуст, главный герой, человек гениальных возможностей, способный при помощи слова творить чудеса. Светлый дух его, надломленный в эпоху перемен, не сумел устоять перед сатанинскими соблазнами. И только любовь Златоустки смогла удержать Златоуста на самом краю, когда жизнь была уже почти проиграна.
Несмотря на сказочность и фантасмагорию, которой наполнены страницы романа, – в нём легко читаются приметы новой эпохи, видны очертания современной России, слышны её беды, победы, разочарования и радости.
Роман отличается ярким и оригинальным языком. По определению профессора В. П. Марина: «Писатель Николай Гайдук является блистательным художником русского слова, мастером, способным удивлять и восхищать в духе лучшей классической литературы, призванной глаголом жечь сердца людей, возвышать их помыслы и раздвигать горизонты…»
Златоуст и Златоустка - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
У Подкидыша оказались удивительно устроенные глаза. Он видел то, что другие не видели. Впервые это стало понятно, когда от него прятали соску: мальчик безошибочно смотрел туда, где соска – на правую руку или на левую. А позднее, когда мальчуган повзрослел и старшие дети затевали игры в прятки, он безошибочно находил схоронившихся в тёмном углу или в дальнем чулане. Мальчик видел куриные яйца, когда они в сарайке на гнёздах появлялись под несушками. Видел, как волки однажды зимой в полнолунье прибежали из леса и хотели зарезать корову. Подкидыш, внезапно проснувшийся, переполошил родителей. Кузнец тогда вышел с ружьём, отпугнул. Мальчик видел мать-и-мачеху под сугробами, синие и жёлтые подснежники, кусты и зелёные травы, заваленные снеговищем.
Приёмные родители с потаённой опаской наблюдали, как мальчик растёт, и всё больше и больше тревожились, втайне уже иногда сожалея о том, что усыновили такое чадо. Что из него получится? Кто?
Крёстный у парнишки был – Литагин Серафим Атаманыч. Башковитый мужик. Крёстный однажды присоветовал кузнецу: если, мол, хочешь узнать, кто он будет по жизни – дай мальчишке золотое кольцо. Если ребёнок в рот кольцо потянет – будет красноречивым. Если зажмёт в кулачке – будет богатым. А если выбросит кольцо – быть ему философом.
Кузнец махнул рукой – ерунда, мол, все эти приметы. Но из любопытства решил попробовать. И что бы вы думали? Мальчишка в рот кольцо потянул.
– Златоустом будет! – воскликнул крёстный.
Однако в следующий миг малец колечко выбросил, да так далеко – насилу нашли. Крёстный озадачился.
– Нет, – сказал, скобля загривок. – Быть ему философом.
– Дармоеда в этом доме я не потерплю, – заявил кузнец. – Будет пахать, как миленький.
И Подкидыш пахал, скирдовал – помогал приёмным родителям. Он легко и азартно впрягался в любую работу – глаза горели, но через какое-то короткое время он остывал. Неинтересно было заниматься нехитрыми житейскими делами. Через день да каждый день Подкидыш уходил в тайгу, бродил в полях, всё искал свой философский камень, только не тот, который алхимикам известен как волшебный эликсир, при помощи которого можно металлы превращать в золотишко. Нет. В ту далёкую пору Подкидыш был настолько наивен, что философским камнем называл всякий камень, на котором человек сидит и размышляет – философствует. И таких «философских» камней у него было много – в тайге, в полях, где он подолгу просиживал, думая о чём-то или просто глядя на небеса, на землю. Этот странный отрок всё никак не мог определиться, куда идти, к чему приткнуться. Поначалу за братаном тянулся, пробовал землю пахать, но бросил. Попробовал сестрице помогать – нравилось узоры сочинять на полотенцах, на коврах; когда-то ведь это была великая премудрая наука – письмена, так роскошно исполненные руками потомков. Но скоро он и это бросил – бабье дело, что ни говори, с тряпками возиться.
И тогда Подкидыш отправился на кузницу, издалека похожую на звонкую шкатулку, в которой злато-серебро пересыпается.
Приземистая кузница находилась на краю деревни. Звонкая эта шкатулка, издалека волшебная, вблизи смотрелась прозаично и даже убого; угловатые потемневшие брёвна казались коваными – гвоздя не вобьёшь. Подкидыш был от природы крепким, дюжим, сызмальства охотно стал помахивать игрушечным молотом – тятенька смастерил. А попозже, лет, наверно, с двенадцати одарённый отрок уже вполне по-взрослому помогал отцу – железо мог месить с утра до вечера, не зная устали. Однако и это занятие – по глазам было видно – мало душу грело. Но никакого другого дела под руками не было пока, и потому парнишка продолжал ходить на кузню, помогать отцу.
Помощничка этого Великогроз Горнилыч самолично вытурил и в сердцах наказал: чтобы ноги тут не было. Такой неожиданный гнев приключился оттого, что паренёк тайком на кузнице умудрился выковать старославянский золотой алфавит, каждая буква которого мельче просяного зёрнышка. Два мешка такого проса наковал, стервец, да ещё один мешок пыли золотой – это были точки с запятыми, вопросительные знаки да восклицательные. Великогроз ему тогда врезал сгоряча. Да и как не врезать? Золотой расплав был приготовлен для работы златокузнецов, которые жили в городе – Великогроз иногда золотишко да серебришко выплавлял из каких-нибудь старинных штук, возил на продажу. А Подкидыш этот что наделал? Оставил семью без прокорма. Правда, позднее городской гражданин приезжал, охал и ахал, разглядывая золотой алфавит. И разглядел-то не просто – сквозь лупоглазую лупу.
– Левша отдыхает! – сказал городской. – А кто это сделал?
– Ванька, чтоб ему…
– Твой сынок? А где он?
– Да где-то в тайге околачивается.
После разговора с горожанином Великогроз Горнилыч душою смягчился, хотел опять Подкидыша зазвать на кузницу, но было поздно. С парнем беда приключилась, да не простая беда – золотая. Влюбился парень. Да так влюбился, хоть репку пой…
– Совсем голова у него открутилась, – горевал кузнец. – Плюнул на работу и пошёл, хрен его знает, куда. Царевну какую-то ищет.
Жена улыбнулась.
– Ну, так он же сам Иван-царевич. Пару себе думает сыскать.
– Иван-дурак он, а не царевич! – осерчал кузнец. – Из дому вышибу, так будет знать!
– Угомонись, Вулкан, – с улыбкой говорила жена. – Разбушевался.
В деревне, да и в семье мало кто знал, откуда у него это прозвище – Вулкан. Ну, то, что характер горячий – это понятно, но дело не только в характере, надо ещё знать историю.
Вулкан Великогроз когда-то находился в Житейском море – неподалёку от города Святого Луки. И где-то там, на острове, у подножья вулкана, как гласит семейное предание, в 17 веке родился богатырь. И нарекли того богатыря – Великогроз. И это было не в бровь, а в глаз. Характер оказался кипящий, вулканический. Человек тот, дерзкий и отчаянный, был капитаном, ходил под чёрным флагом, украшенным Адамовой головой, – старинный символ смерти и бесстрашия. Стремительный корабль Великогроза по морям-океанам летал быстрее молнии, настигая добычу в самых неожиданных местах. И тогда лазурная вода становилась червонно-багровой, и на запах крови к месту побоища торопились акулы – жадно рвали тела убиенных заморских купцов, моряков. А капитан Великогроз приказывал причалить к дикому какому-нибудь острову. Поднимали костры до небес, открывали бочки с вином и ромом, и начинали многодневный пир. А всякий пир, известно, кончается похмельем, от которого башка трещит.
Горькое похмелье изведал капитан Великогроз, когда однажды поутру прочухался и увидел себя крепко связанным. Страшно сказать, что случилось на острове, где проживало племя каннибалов. Аборигены, никогда ещё не пившие такого крепкого хмельного, до того развеселились – всю команду сожрали за ночь. А капитана – как породистого самца – оставили для улучшения своего людоедского племени. Капитану построили отдельный шалаш, в котором поселился целый гарем – штук двенадцать папуасок. Три с половиной месяца капитан Великогроз прожил на том острове, с ужасом глядя на головы своих верных товарищей – отрезаные головы на копьях были воздеты к небу и день за днём какие-то неведомые птицы, похожие на грифонов, терзали черепа, оголяя до белой кости, ослепительно сверкающей на тропическом солнце. Капитан Великогроз плохо понимал тарабарскую речь людоедов, но красноречивый нож в руке вождя – нож, испачканный кровью – хорошо объяснил, что может быть с невольником, если он не станет слушаться вождя. И невольник покорился. Сто дней и ночей капитан улучшал породу людоедов, сотрясая шалаш и окрестные пальмы так, что бананы падали на крышу, а красотки в гареме по ночам и средь белого дня так визжали, так взывали о помощи – людоедов охватывал ужас. Людоеды приходили посмотреть, что вытворяет белокожий зверь – может быть, он живьём пожирает бедных папуасок. Успокоившись, аборигены даже полюбили капитана. Наивные как дети, они подходили к Великогрозу, бесцеремонно приподнимали набедренную повязку и восхищённо трогали священное сокровище.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: