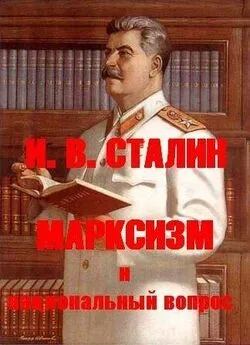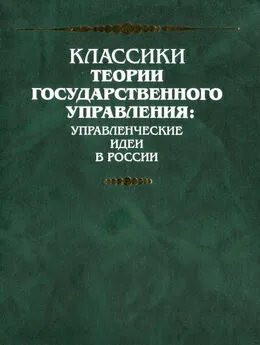Андрей Ткачев - Национальный вопрос и моя мама
- Название:Национальный вопрос и моя мама
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Даниловский благовестник
- Год:2012
- Город:Москва
- ISBN:978–5-89101–249–3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Андрей Ткачев - Национальный вопрос и моя мама краткое содержание
Авторы сборника «Национальный вопрос и моя мама» предлагают читателям христианский взгляд на проблему межнациональных отношений. Во Христе, как известно, нет различий «между эллином и иудеем» (см.: Рим. 10,12; 1 Кор. 1, 23–24; Тал. 3, 28 и др.), но это отнюдь не означает, что народам следует забыть свои культурные и национальные традиции. Бережное и уважительное отношение друг к другу, умение разделить боль человека, живущего на чужбине, а главное — любить ближних, независимо от национальности и цвета кожи — мысли, которые лейтмотивом проходят через книгу.
Национальный вопрос и моя мама - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС И МОЯ МАМА
М.: Даниловский благовестник, 2012. — 160 с.
ISBN 978–5-89101–249–3
УДК 271.2 ББК 86.372
© Данилов ставропигиальный мужской монастырь, составление, оформление, верстка, 2012
Нина Павлова
Национальный вопрос и моя мама
«Мен сени якши кураман»
Урожденные сибиряки, мы оказались в Узбекистане из–за папы. Как и все мужчины в нашей семье, он ушел добровольцем на фронт, а военкомат направил его охранять среднеазиатскую границу. Так и прослужил он всю жизнь в Узбекистане, выйдя в отставку уже подполковником.
Но если папа был всего лишь подполковником, то мама, главный агроном республиканского объединения «Сортсемовощ», была у нас, пожалуй, матушкой–генеральшей. Проще сказать, она была из породы тех русских женщин, о которых сказано у Некрасова: «коня на скаку остановит, в горящую избу войдет». Правда, про горящую избу я точно не знаю. А вот история с конем была такая. Маме как агроному полагалась лошадь, чтобы объезжать поля. А потом всех лошадей забрали на нужды фронта, и остался лишь зверь–жеребец по кличке Мальчик. Мальчика хотели пристрелить — он нападал на людей, рвал их зубами и мог, опасались, убить. Как мама укротила жеребца, вкратце не расскажешь. Но конь был предан маме, как собака, и не однажды спасал ей жизнь — уносил от погони волчьей стаи и однажды перекалечил волков, когда стая настигла их. А еще запомнилось, как в студеную сибирскую зиму мама заблудилась в буране и, замерзнув, потеряла сознание. Конь привез тогда домой среди ночи уже бесчувственную маму и бешено барабанил копытом в ворота, пока не разбудил домашних. Помню, как мама, очнувшись, дала коню хлеба с солью и похвалила его:
— Ты заработал свой хлеб.
Это была высшая похвала в ее устах коню или человеку — он заработал свой хлеб. С детства, с первых звуков родной речи во мне живет то мистическое отношение к хлебу, когда вот эту краюшку к обеду надо сначала заработать. От дармового хлеба, считалось, болеют и хиреют. И худшее, что могли тогда сказать о человеке, это: «Он ест из чужой тарелки». Или: «Он на кусок хлеба себе не заработал». Правда, в Узбекистане говорили: «на лепешку».
Узбекский язык мама знала, но с достоинством матушки–генеральши говорила только по–русски. Приходит к ней, к примеру, Саид и начинает, естественно, с приветствия:
— Яхшимисан? Саломатмисан?
Восточное приветствие — это изысканная, но долгая церемония, когда из учтивости надо расспросить про всех домашних, поинтересовавшись под конец и здоровьем ишака, если таковой имеется.
— Саидка, кончай, — обрывала его мама. — Муж, дети и кошка здоровы. А ты почему не проверил на всхожесть семена?
Семена — это золотое дно. На всех базарах были тогда магазины «Семена», подчиненные непосредственно маме. Семена продавали из мешков — на развес. А элитные семена стоили настолько дороже обычных, что можно было сделать состояние, подмешивая в элиту низкосортицу. Так вот, мама говорила о своих продавцах:
— Саидка у меня спекулирует коврами, Алишер — шелком. Все с торговли кормятся, но семенами не спекулирует никто.
Должность мамы — тоже золотое дно. В ее руках рычаги управления богатством — семеноводческие хозяйства, селекционная станция и сеть магазинов «Семена». Маму не раз пытались подкупить, и ярко запомнился такой случай. Послевоенные годы, всё по карточкам и очень голодно. Мама, уходя на работу, оставляет нам с братиком на обед три картофелины в мундире. Сама она ест только кожуру от картошки, уверяя, что это полезно: в кожуре много калия. Но дотерпеть до обеда мы с братом не в силах. Съели картошку еще утром, а в обед шаримся по пустым кастрюлям. И вдруг — о, чудо! — нам привозят машину продуктов. Какие–то веселые люди в тюбетейках заносят в кухню мешки риса, муки, ящики с тушенкой и еще с чем–то. Помню только золотистые балыки рыбы и название неведомой мне еды — бастурма. Я разглядываю неизвестную мне бастурму, а братик припадает к корзине с виноградом и быстро–быстро ест его. Но тут появляется разъяренная мама, и люди в тюбетейках почти бегом уносят мешки и ящики обратно в машину.
— Подумали бы о детях, уважаемая, — советует маме некто осанисто–важный.
— А я, Рашидка, о детях и думаю, — отвечает мама. — Не хочу, чтобы они попали в тюрьму.
Сказала мама и как напророчила — через несколько лет Рашид действительно попал в тюрьму за хищение в особо крупных размерах. И все–таки в детстве меня смущала манера мамы говорить «Рашидка», «Саидка». Однажды, наслушавшись глупых пропагандистских речей о великодержавном шовинизме, я даже заподозрила, что мама относится к узбекам как–то не так. Вот, например, картинка из прошлого, а точнее, старая фотография — на ковре, скрестив ноги и улыбаясь в объектив, сидят узбеки, а над ними возвышается мама — она всегда сидит на стуле, заявляя:
— Не понимаю, зачем ноги бубликом складывать, если на стуле удобней сидеть?
А еще мама не признавала обычая спать на полу, и в кишлаках, где ей случалось ночевать, специально для мамы заводили кровать. А мне нравилось по–узбекски спать на полу. По моде века, увы, обрастаешь вещами, без которых, кажется, не обойтись. И все же недостижимым идеалом для меня остается та узбекская комната без мебели, где быт не довлеет над человеком, а богатство не выставляют на вид. Одеяла, утварь и вещи здесь упрятаны в нишу за ковром. И это непорабощенное вещами пространство позволяет увидеть главное — цветущий урюк за окном, а выше урюка синее небо, в котором, касаясь крылом солнца, плавно парит сокол сапсан.
Восток тяготеет к созерцанию прекрасного, ибо здесь острее, чем в Европе, ощущают трагизм бытия. Узбеки читают Достоевского и говорят: «ширин» — «сладкий». А на Памире в горах есть опасная тропа над пропастью, где надо идти по вбитым в скалу кольям. Перил нет, под ногами бездна, а над головой выбитая в камне вязь арабских букв? «Путник, помни, что здесь, как и в жизни, ты словно слеза на ресницах». Жизнь — слеза на ресницах и тот миг перед Вечностью, когда благоуханные алые розы вскоре станут бесцветным мусором, а нежная кожа ребенка превратится в морщинистую плоть старика. Этот трагизм бытия, как ни странно, обостряет любовь к жизни. И мудрее не сетовать, а любоваться розами, пока они еще царственно цветут для тебя.
На Востоке благоговеют перед прекрасным и ценят поэзию, запечатлевшую тленную красоту мира в своих чеканных нетленных строках. Стихи здесь могут слушать часами. А знакомый этнограф рассказывал случай — в кишлак к каракалпакам приехал сказитель. И люди неделю без сна и отдыха слушали, замерев, сказание о Манасе.
Поэзия в Азии повседневна. Узбекская мать, укачивая младенца, читает ему стихи. А чайханщик, подавая лепешку к чаю, вдруг положит рядом с лепешкой цветущую ветку граната, и ты увидишь, как прекрасны деревья в цвету.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: