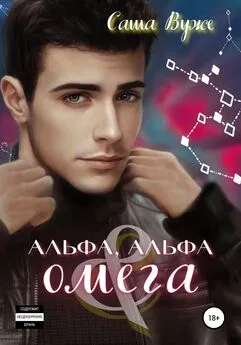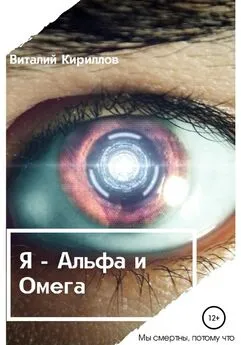Марина Журинская - Альфа и Омега Марины Журинской. Эссе, статьи, интервью
- Название:Альфа и Омега Марины Журинской. Эссе, статьи, интервью
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Белый город»
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:978-5-485-00504-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Марина Журинская - Альфа и Омега Марины Журинской. Эссе, статьи, интервью краткое содержание
Альфа и Омега Марины Журинской. Эссе, статьи, интервью - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
А в церковных делах здесь нужна деликатность, хотя Бог и выше царя (и, наверное, именно потому): сначала следует объяснить людям, Кто такой Бог и что такое дом Божий, а уже потом, наверное, проблема одеяний будет решаться и проще, и более самостоятельно. Ну а если уж какая-нибудь несчастная женщина в трагическую минуту своей жизни влетит в храм без платка, абсолютно зареванная и с пламенным желанием припасть к источнику милости Божией – не надо ей делать замечания: она чувствует гибель над собой и спасается у Бога, а не у тех женщин во вполне корректных платках, которые при этом присутствуют.
О. А.: Внешнее является выражением внутреннего, поэтому действительно если объяснить про Бога и про дом Божий, то дальше понимание пойдет уже изнутри.
М. Ж.:Замечательно четкая формулировка касательно соотношения внешнего и внутреннего, но ведь это внутреннее должно быть. А если не будет не только что полного (это невозможно, как известно), но хотя бы вменяемого представления о Боге, то все правила поведения в храме останутся внешностью, в некотором смысле ложью, а это негоже.
О. А.: Истинное представление о Боге можно получить только в Царствии Небесном, встретив Его там. Но необходимо, чтобы развивалось правильное о Нем представление, равно как и о духовной жизни, о соразмерности всех проявлений человека, в том числе и внешности. Мы опять приходим к уместности и полезности понятия благообразия (недаром это слово любил Достоевский).
Идеал – это гармоническое сочетание духовного роста, душевной культуры и благообразного нашего обращения среди людей и с людьми, что включает и вежливость, и одежду.
М. Ж.:Как мне кажется, из нашей беседы следует, что не нужно учреждать кружков и семинаров по вежливости. Инструкций выпускать тоже не надо, а надо благовествовать людям Христа Спасителя.
О. А.: И призывать к тому, чтобы светом Божией любви просвещалась и интеллектуальная сфера нашей жизни, и душевная, и чтобы даже в быту это сказывалось. Этому не противоречит душевное и материальное; перечеркнув их, мы никуда не вознесемся.
М. Ж.:Но ведь бывает, что нарочитая грубость считается признаком нарочитой святости, прозорливости и т. д. Как вы к этому относитесь?
О. А.: Это такая ферапонтовщина, по «Братьям Карамазовым». Очень гармонирует с представлением о священниках, создававшимся в советскую эпоху. Но нужно различать этот гротеск и традицию юродства.
М. Ж.:Однако был прецедент и до революции: расстрига Илиодор Труфанов, который культивировал нарочитую грубость вплоть до брани. Кончил, однако, плохо [10] Об этом см. Протоиерей Максим Хижий. История одного расстриги: иеромонах Илиодор (Труфанов) // Альфа и Омега. – № 2 (46), 2006 г. – Сост.
.
О. А.: Немножко попахивает гностицизмом: необходимо грешить, чтобы каяться, или здесь желание показать, что мы выше этого; скорее второе. Но вот что касается традиции юродства, то ведь юродивый ведет себя не как все, даже нарушает какие-то нормы. Но он тем самым пытается разбудить нашу мещанскую успокоенность, чисто внешнюю приглаженность. Это очень актуально в традиционном христианском обществе, в традиционном христианском быту, который, однако, у нас был разрушен «до основанья».
Я думаю, что нам, может быть, не стоит идти по пути восстановления чисто внешней бытовой религиозности, но и приоритеты наши – не в том, чтобы взорвать бытовую успокоенность, разрушить ее, чтобы достучаться выше, а в том, чтобы достигать гармонии, сообразовывая духовное, душевное и материальное.
М. Ж.:Если уж речь зашла о внешнем, то можно вспомнить, что в соловьевских «Трех разговорах» антихрист предлагает православным, искушая их, полный набор внешнего благолепия: сарафаны, поддевки, иконы старого письма, старопечатные книги. А они отказываются, и старец Иоанн говорит: «Нам от тебя ничего не нужно. Прославь Христа». И тут антихрист в гневе и ужасе показывает свою сущность.
О. А.: Да, «Три разговора» – замечательный философский трактат, и действительно, главный критерий – это Христос, все свои действия и поступки, все свои взгляды следует соотносить с Ним. Во Христе мы увидим и красоту, и благообразие, и найдем в Писании ветхозаветные слова, подтвержденные Новым Заветом: «Не делай другим того, чего не хотел бы для себя». Это одновременно и минимум, и максимум.
М. Ж.:А для меня драгоценные места в Евангелии – это когда Спаситель разговаривает с женщинами. Он при этом говорит с какой-то особенной теплотой, хотя может и немножко «подколоть», как в разговоре с сирофиникиянкой (см. Мк. 7, 25–30), которую Он в общем-то сравнил с собакой, но ведь знал, с кем говорит, и знал, что иногда с женщинами нужно попроще, а иногда, напротив, более торжественно ( дерзай, дщерь – Мф. 9, 22). Но ведь всегда обращал внимание на то, с кем говорит, и с каждой говорил так, как ей это было надо. Это и есть высшая вежливость, когда дело не в том, «на ты» или «на вы», а в том, чтобы каждый получил то, что ему нужно.
О. А.: Вежливость, конечно, не самоцель, но это некое пространство, которое позволяет нам обратиться к ближнему, увидеть ближнего, почувствовать его, а в конечном итоге – учиться любви.
Может быть, это не единственная дверь, но главная, если можно так сказать, по крайней мере, одна из главных. Еще раз скажу, что это не самоцель, но возможность дальнейшего совершенствования.
М. Ж.:Теперь давайте мы с вами рассмотрим ту мещанскую мудрость, с которой начали. В ней чувствуется какая-то правда, но наряду с ней наличествует еще непонятно что. Ведь если подумать, то действительно ли вежливость обходится нам очень дешево?
О. А.: Она обходится нам не очень дешево по разным причинам. С одной стороны, не имея традиции вежливости, то есть в ситуации прерванности культурной традиции, не так-то легко усваивать и применять то, что когда-то было для людей естественным. И еще одна трудность – найти царский путь, потому что грубость, хамство – вещь, малосовместимая с принципами христианской жизни, но это, так сказать, Сцилла, а есть еще и Харибда [11] Сцилла и Харибда – в античной мифологии олицетворение опасностей в море; Сцилла – скала с пещерой, в которой обитает шестиглавое чудовище, Харибда – водоворот. Они расположены по обе стороны узкого пролива, и над ними не властен даже бог моря Посейдон. Сциллы и Харибды удалось избежать аргонавтам и Одиссею (дважды). Находиться между Сциллой и Харибдой – значит подвергаться опасностям с двух сторон. – Ред.
, и это политкорректность. Хамство для нас не внове, а что касается политкорректности, которая в конечном итоге сводится к нежеланию встретиться лицом к лицу с истиной, то это опасность немалая. С истинной вежливостью – вежеством – она не сродни, и их различение в конечном итоге сводится к различению духов.
Интервал:
Закладка:
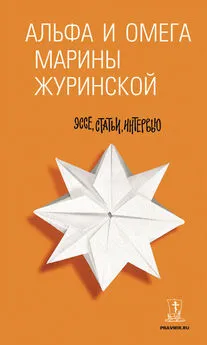

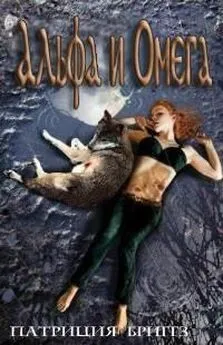
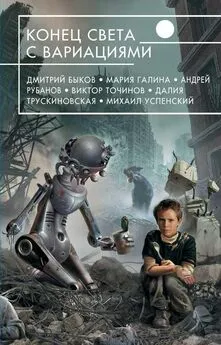
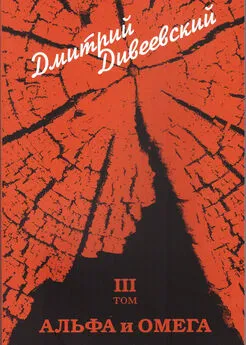
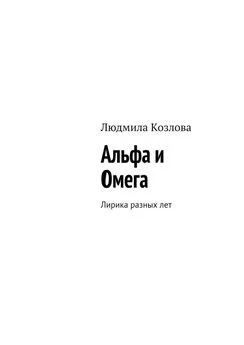

![Денис Вайсман - Альфа и Омега [СИ]](/books/1071387/denis-vajsman-alfa-i-omega-si.webp)