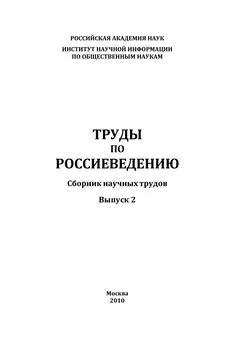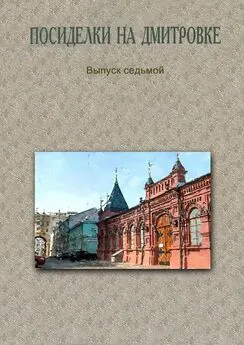Коллектив авторов - Труды по россиеведению. Выпуск 2
- Название:Труды по россиеведению. Выпуск 2
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:978-5-248-00584-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Коллектив авторов - Труды по россиеведению. Выпуск 2 краткое содержание
Для специалистов-обществоведов и гуманитариев, аспирантов и студентов.
Труды по россиеведению. Выпуск 2 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
2010 год оказался «неожиданно» юбилейным. Причем в зеркале этих юбилеев мы можем увидеть некоторые важные черты России первого десятилетия XXI в. Итак, это и 100 лет со дня ухода и смерти Льва Толстого, и 90 лет со дня фактического окончания Гражданской войны и победы в ней «красных», или большевиков (о чем, кажется, никто не вспомнил), и 65 лет окончания Отечественной и Второй мировой войн, и 30 лет проведения московской Олимпиады (почему это событие так значительно, мы еще скажем), и 25 лет со дня начала перестройки, и 10 лет правления В.В. Путина (два последних, «медведевских» года в целом суть продолжение предшествующего режима).
Итак, по порядку. 1910 год. В России заканчивается «золотой» XIX в. Уход Толстого символизировал собою завершение периода расцвета и подъема (еще два-четыре года для истории не существенны, не заметны). «Бунт» Толстого по своим глубине и опасности был не менее значим, чем революция 1905–1907 гг. Может быть, самое яркое, что произвела Россия в свой «золотой» век, порывает с ней – ее церковью, ее государством, ее семьей, ее социальным устройством – всякие связи. Так Толстой, который был (здесь Ленин прав) «зеркалом русской революции», сам стал русской революцией. Кстати, такое в нашей истории уже случалось. Вспомним Пушкина, как-то в разговоре заметившего: Петр Великий есть настоящая революция. То же самое можно сказать и о Толстом. Сегодня мы не представляем себе масштабов того морального влияния на российское общество, которое имел этот яснополянский рюрикович. И потому его «нет» было грандиозным отрицанием всей той России. (Некоторые современники – например, Т. Манн и А. Блок – полагали, что если бы Толстой был жив в 14-м году, то не началась бы мировая война («всем стало бы стыдно»), а в 17-м году – революция. Конечно, они ошибались, особенно Блок: ведь, повторим, Лев Толстой и был революцией.)
В какой-то момент показалось, что если с уходом Толстого Россия вступила в свой страшный ХХ в., то с возвращением Солженицына, которое произошло три четверти столетия спустя, она вернулась на какие-то исконные, органические пути (чего так страстно хотел Александр Исаевич). Но этого не произошло. Как всегда, Россия идет, безусловно, своим, но – и опять же, как всегда, – новым, неизведанным путем. (Собственно, этому и посвящен очередной выпуск «Трудов по россиеведению».)
1920 год. Очевидная и безусловная победа большевиков в Гражданской войне. Всякому нормальному человеку становится ясно, что с вооруженным сопротивлением новому режиму покончено. Россия разрушена до основания, до тла – Россия «во мгле». Победители получают возможность строить свой новый мир. Именно тогда начинает складываться советская система, наследниками и продолжателями которой являемся мы. Но тогда же рождается и другая Россия («Россия в изгнании», З. Гиппиус), которая в интеллектуальной и эстетической форме блистательно реализует те интенции и тот потенциал, что были накоплены нашей страной в ее золотой век. К сожалению, они не воплотились в социально-институциональной сфере.
1945 год. Единственное, пожалуй, безусловное событие в советской истории. При всем том непредставимом ужасе 1941–1945 гг., при всех тех ни с чем несоизмеримых преступлениях сталинского режима (прежде всего по отношению к собственному народу), при всех тех неисчислимых жертвах, которые положили на алтарь Победы народы Советского Союза, война и Победа стали главным внутренним подвигом русских людей ХХ столетия. Внутренним потому, что режим сделал все от него зависящее, чтобы народ отказался воевать.
Война и Победа явились фундаментом еще одной попытки России построить гражданское общество. Оттепель, шестидесятничество, правозащитное и вообще диссидентское движение, мощный подъем русской культуры в послевоенные десятилетия имеют своим источником войну. Скажем больше. В ходе и в результате войны Россия вновь начала обретать себя. Она сумела доказать (в первую очередь, себе), что полного краха не произошло. Последовавшие подъем экономического благосостояния «широких народных масс» (середина 50-х – конец 70-х), научно-технические достижения, атомный проект, космос и т.д., несомненные успехи в сфере социально-гуманитарных наук, да и вообще модернизационный рывок также суть следствия войны и Победы. Именно в те годы первый поэт России ХХ в. Борис Пастернак зафиксирует: «Я как от обморока ожил».
65 лет со дня окончания Второй мировой войны, как это ни парадоксально, для России ничего не означают. Никаких эмоций относительно этой войны и этой победы у нашего народа нет. Может быть, единственное, что вызывает оживление или интерес, – это споры на тему, «каков был вклад союзников в нашу победу, была ли их помощь СССР значительной, решающей, несущественной и т.п.». Но все это второстепенно по сравнению с отношением россиян к Отечественной войне. Интернационализация войны и Победы для нашего человека – «элитарного» и массового в равной мере – невозможна, так как меняет (точнее, отменяет) ее смысл.
Этот пример демонстрирует важнейшую культурно-ментальную характеристику. Мы, русские, по-прежнему понимаем себя как весь мир, а не его часть, не желаем мириться со своей частностью. Поэтому и мировую историю, и мировую войну редуцируем к отечественным. Именно здесь источник нередкого у нас воинствующего национализма, отрицающего (презирающего) Другого и на этой основе возвышающего себя. Внутренняя «недостаточность», культурная «элементарность», неуверенность в себе, которые компенсируются комплексом «избранничества», – все эти болезненные свойства национального организма, на которые впервые так отчетливо и резко указал Чаадаев, в нас не просто остались, но в советские времена были развиты и укрепились в качестве «основы». На ней – видимо, за неимением других оснований – и стоит сегодняшняя Россия.
1980 год. Год обещанного коммунизма. Советская власть (власти) как всегда сдержала слово. Как пелось в популярной советской песенке: «И что было задумано, то исполнится в срок»… Исполнилось. Коммунизм пришел в СССР в виде и в рамках Московской олимпиады (у него даже был свой символ – «ласковый Миша» из «сказочного леса»). Советский человек, хоть и несколько дней, но пожил при коммунизме, о необходимости и неизбежности которого говорили двадцать лет. Кто-то поучаствовал в этом лично, другие (большинство) знали понаслышке, но время от времени всех еще подпитывает ощущение радости, счастья случившегося.
В 2010 г. об Олимпиаде вспомнили, по ТВ прошли соответствующие сюжеты и фильмы, создали даже Оргкомитет по празднованию 30-летия. Интересно, что говорили не о спортивных победах или неудачах, не о спортмероприятии, а об атмосфере тех дней – непривычно (для Москвы и СССР) доброжелательной, спокойной, радостной. В воспоминаниях ощущались невероятная, даже какая-то щемящая ностальгия, странное – человеческое, нежное – отношение к официальному, вроде бы, событию. Как будто люди пережили момент счастья, личного и общего одновременно, сближающий их и теперь. Мне всегда было непонятно такое восприятие Олимпиады 80-го. Оно явно не случайно, но чем вызвано?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: